Яков ШАФРАН. Ковчег 2017
ПРАВОСЛАВИЕ В НАШИХ ДУШАХ
КОВЧЕГ
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
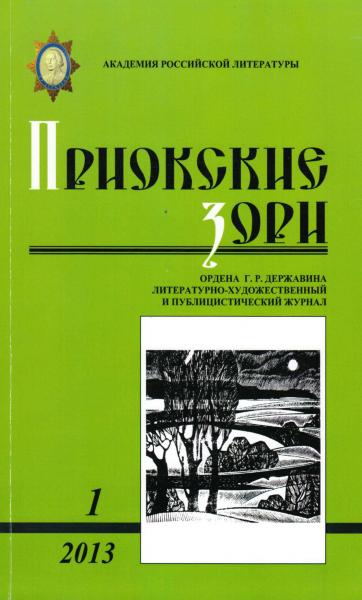
ОРДЕНА Г.Р. ДЕРЖАВИНА
ЖУРНАЛА
«ПРИОКСКИЕ ЗОРИ»
ВЫПУСК 7
ТУЛА
2017
ББК 84 Р7 (Рос.-Рус.)
К 25
- «Ковчег»: поэзия, проза, публицистика, критика и литературоведение, произведения о детях и для детей, песни.— Тула: Изд-во «Полиграфинвест», 2017.— 328 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).
ISBN 978-5-7679-2336-6
В альманах «Ковчег» вошли стихотворения и рассказы, эссе и миниатюры, статьи и воспоминания, родословные, литературоведческие работы и рецензии, песни, а также произведения о детях и для детей для чтения им родителями. Участники альманаха — это и самодеятельные писатели, и профессионалы — члены Союза писателей России, Союза российских писателей и других писательских союзов. Широк и возрастной диапазон авторов, он охватывает три поколения. В «Ковчеге» представлены авторы из Полоцка Витебской обл. (Белоруссия), Одессы (Украина), Семипалатинска (Казахстан), Эль-Кувейта (Государство Кувейт), Симферополя, Брянска, Медвенки Курской обл., Сокола Вологодской обл., Тулы; Алексина, Донского и Шекино Тульской обл.; Москвы, Серпухова и Дзержинского Московской обл., Самары, Тольятти Самарской обл., Волгоградской обл., Екатеринбурга, Тюмени, Нижневартовска Ханты-Мансийского АО и Кодинска Красноярского края. Объединяет же всех — любовь к России, православию, русской культуре и обеспокоенность судьбами страны и народа, будущим наших детей.
© Авторы, 2017
© Шафран Яков Наумович, идея,
составление, оригинал-макет,
оформление, 2017
© Журнал «Приокские зори», 2017
© Издательство «Полиграфинвест»,
ISBN 978-5-7679-2336-6 2017
ДУХОВНАЯ СТРАНИЦА
ЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
НА ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ
ПАТРИАРШЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ *
в Зале церковных соборов кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя
(18 мая 2016 г., Москва)
Сердечно всех вас приветствую в эти пасхальные дни и рад возможности снова увидеть замечательных представителей нашего писательского цеха, мастеров литературной критики, читателей, людей, для которых литература — это не просто слово и не просто название в перечне предметов школьных дисциплин.
Литература имеет очень большое значение для духовной жизни человека. <...> Иногда, общаясь с разными людьми, в том числе с представителями нашей интеллигенции, иностранными любителями литературы, я слышу слова, с которыми никогда по-настоящему не соглашаюсь. Говорят об упадке русской литературы, об отсутствии ярких имен, о снижении роли литературы как культурного фактора в жизни людей. Не соглашаюсь, потому что имею опыт общения с теми нашими современными писателями, которые реально влияют на людей, произведения которых читают и которые вносят свой особый вклад в духовный и культурный мир страны.
Как писал наш выдающийся русский литературовед Юрий Михайлович Лотман, с которым я имел возможность познакомиться и много беседовать в 1988 году, путешествуя с группой советских писателей в Италию по приглашению Итальянской академии наук на празднование 1000-летия Крещения Руси, «Вечное всегда носит одежду времени». То есть, о каких бы вечных идеях человек ни говорил, он выражается в категориях мысли, в культурных категориях своего времени, он облачает истину, даже имеющую вечный характер, всегда в то культурное одеяние, которое является достоянием эпохи, в которой сам носитель и выразитель вечных идей и живет.
В бурном потоке современности, который включает и литературный поток, мы часто не видим или, может быть, не успеваем рассмотреть замечательные произведения. Мы в каком-то смысле не узнаем и не понимаем самих себя, настолько скоротечно время и настолько трудно современному человеку сконцентрироваться на чем-то, что не касается прямо его профессиональных или семейных забот. Глубоко убежден в том, что настоящая литература способна вырвать человека из этого быстротекущего потока времени и привести его в соприкосновение с вечными ценностями. А для того чтобы человек сумел разглядеть эти вечные ценности, нужно, чтобы они были актуализированы посредством слова современного писателя. <...>
Современный литературный процесс неоднороден и сложен, и многие, кто здесь присутствует, могут говорить об этом более убедительно, чем я. Но, проанализировав тематику популярных сегодня художественных произведений, можно заметить, что большинство писателей нередко прибегают к приемам, которые невозможно связать с великой литературой. Это эпатаж, а иногда даже скандал, хлесткое словцо, желание ошарашить человека, шокировать его и тем самым привлечь внимание к своему произведению. Однако, злоупотребляя изображением всего того, что может шокировать человека, писатели, сами того не замечая, начинают работать на ту самую идею, которая человека шокировала. А шокируют чаще всего не высокие идеи. Высокие идеи поражают сознание, захватывают дух. Над высокими идеями люди плачут или улыбаются. Высокая идея может действительно настолько поразить воображение человека, что навсегда входит в его сознание, влияет на формирование его взглядов, убеждений, его духовного, культурного профиля. Злоупотребляя изображением негативных и неприглядных сторон жизни общества, авторы не столько их обличают, сколько, вольно или невольно, делают акцент на человеческих пороках, на человеческих страстях.
Кстати, и классики писали и пороках, и о страстях, но порок и страсть никогда не были доминирующей идеей высокохудожественного произведения. Нельзя не писать о пороках и страстях, если пишешь о жизни, если пишешь о человеке, как нельзя не писать о грехе, потому что «несть человек, иже жив будет и не согрешит» (2 Пар. 6:36; 3 Цар. 8, 46; Екк. 7:20). Каждый человек в своей жизни проходит через соблазны, через искушения, через грех, через взлеты, через падения. И художественная литература, отражая драматизм жизни, должна это делать таким образом, чтобы в результате соприкосновения с текстом человек духовно рос, чтобы у него действительно раскрывались крылья, чтобы он понимал, что жизнь на уровне страсти, порока, греха — это жизнь пресмыкающегося, что человек призван к другому…
Конечно, смотреть на мир сквозь розовые очки — это другая, не менее опасная крайность. Но писатель призван напоминать людям о том, что от их собственного выбора — в сторону греха или борьбы с грехом — зависит, прибавится ли в мире добро и сократится зло или, напротив, зло расширит сферу своего влияния, а добро сузится, превратится во что-то малозаметное и неубедительное. Не замечая светлых сторон жизни, пренебрегая изображением доброго и прекрасного, автор невольно формирует у читателя циничное отношение к окружающей действительности. Потому что ничто не развивает цинизм так, как убеждение во всевластии греха, как убеждение, что не следует противиться греху и неправде — мол, тебе же будет хуже, живи, как все живут. Подавление в человеке способности сопротивляться злу, приучение его к таким моделям поведения, которые мирно уживаются с неправдой, со злом, с грехом, является, наверное, самым опасным, что может привнести литература в жизнь человека.
Коммерциализация литературы — конечно, тоже бич нашей современной культуры. Сегодня коммерческий фактор превращает литературные публикации в настоящее шоу, важную роль в котором играет не только сам текст произведения, но и биография писателя, его социальный статус, как теперь говорят, имидж, шумная PR-компания,— не хочется и употреблять все эти жаргонизмы, пришедшие к нам из другого языка. И как здесь не вспомнить замечательные слова Бориса Пастернака, очень точно выражающие сущность настоящего таланта: «Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех». Он знал, о чем говорил, он и был именно таким писателем, который не на успех, и не на шумиху, и не на аплодисменты работал, а на то, чтобы разделить с людьми свое собственное понимание человека, истории, судьбы страны. К сожалению, некоторые современные авторы об этом забывают, полагая, что качество произведения определяется количеством положительных рецензий и распространенных экземпляров книги.
Есть у нас и другая беда. После того как я согласился возглавить Общество российской словесности, мне приходится обращать внимание на то, на что раньше как-то не получалось обращать внимание из-за постоянной нехватки времени,— на преподавание русского языка и литературы в современной школе. Я далек от того, чтобы сегодня сказать о своих окончательных выводах, многое мне еще непонятно, многое я пытаюсь узнать, беседуя с людьми более просвещенными и более знающими предмет, чем я, что-то читая, что-то сравнивая,— но я глубоко убежден в том, что преподавание русского языка и литературы в современной школе представляет собой некий эксперимент. Таких экспериментов было уже очень много за последние 20 лет, присутствующие знают об этом намного больше и лучше, чем я, но вот эксперименты сменяются один другим, а часов, выделяемых на словесность в школьном курсе, становится все меньше и меньше. Дети наши и молодежь читают все меньше и меньше; все меньше и меньше литература становится фактором культурного и духовного влияния на личность наших современников, в первую очередь молодых людей.
Великий Пушкин когда-то написал, что поэты рождены «не для корысти, не для битв». А у нас преподавание литературы многие годы как раз и является полем ожесточенных сражений, поскольку на выбор изучаемых в школе произведений, методов работы и форм контроля влияют самые разные факторы, в том числе не имеющие к литературе никакого отношения. Вот для того чтобы сформировать какой-то общий и достаточно сбалансированный подход, очень важно, чтобы в процессе работы над изменениями школьной программы, даже в процессе обсуждения всего того, что связано сегодня с преподаванием литературы и русского языка, как можно дальше отойти от всех этих привходящих нелитературных факторов и дать возможность в первую очередь специалистам, педагогам, в конце концов родителям принять участие в обсуждении этой важной темы.
Убежден: литература не должна становиться, еще раз хочу сказать, полем битвы общественных группировок или политических сил. Обществу нужны книги, формирующие представления о добре и зле, помогающие увидеть красоту Божиего мира, заставляющие искать ответы на вечные вопросы, призывающие думать, размышлять, а не просто развлекаться.
Мне отрадно видеть в этом зале людей, которые много лет взращивали и продолжают взращивать литературный талант, данный им Богом, которые осознают свою ответственность и перед Творцом, и перед своими читателями, перед современниками и перед будущими поколениями. <...>
Культура исторична по своей сути, и ее настоящее не может существовать в отрыве от прошлого. Вступая на поприще литературных трудов, автор ориентируется на выдающиеся литературные образцы минувших столетий, осваивает сначала традицию. А как же без этого? Когда нам говорят, что традиция — это просто отзвук прошлого, и традиция не является решающим фактором формирования мировоззрения, убеждений современного человека, то допускают огромную ошибку. И я всегда доказываю правоту того, о чем сейчас сказал, простой ссылкой на учебный процесс. Когда ребенок открывает учебник, когда студент открывает учебник, то чаще всего эти учебники написали те, кто жил до читателя, до студента, до школьника. То есть все это принадлежит прошлому — более отдаленному или менее отдаленному прошлому,— но все это часть традиции. Вот почему традиция является решающим фактором, формирующим личность. И, конечно, ни в коем случае нельзя об этом забывать.
Быть писателем — это, несомненно, призвание и талант. Но это еще и постоянное самосовершенствование, непрерывная, вдумчивая работа над собой. Все это требует, конечно, немалого терпения и трудолюбия, жизненного подвига. А почему у нас, особенно в прошлом, так почитали писателей? Как героев. Да потому что каждый применял к себе возможность написания им какого-либо текста и понимал, что не может этого сделать, не говоря уже о книге — не может написать книг. Почему и писатели представлялись как некие небожители — они обладали тайной, мастерством, талантом, которым другие не обладают. И ведь это действительно так. Вот я бы хотел, сформулировав то, что сейчас сформулировал, сказать о том, что один этот факт требует уважения к писательскому труду, почитания этого труда, поддержки этого труда. При этом, конечно, нельзя забывать и о том, что сегодня литература порой становится средством добывать деньги, и на свет приходят тексты, которые никак нельзя назвать литературой, а иногда это просто чистейшая халтура — литературная, стилистическая, смысловая. Мне иногда приходится по тем или иным причинам открыть такого рода текст. Стыдно становится за автора. И конечно, к такому автору у читающих людей навряд ли будут формироваться уважение и признательность. <...>
Очень важно, чтобы писатели никогда не ставили под сомнение свою способность влиять на умы людей, как бы ни сокращалось поле доступности современного человека к литературным произведениям. Я очень прошу вас верить в то, что талант, данный вам Богом,— это великий талант, и его нужно употребить именно так, чтобы современники могли почерпнуть из ваших произведений что-то очень важное для них самих, чтобы каждый из вас смог честно ответить Богу, Который, конечно, потребует ответ от талантливого человека, согласно евангельской притче об умножении талантов.
ПРОЗА
ЛАРИСА СЕМЕНИЩЕНКОВА
ИРИНА КЕДРОВА
АЛЕКСЕЙ ЯШИН
СЕРГЕЙ КРЕСТЬЯНКИН
РАГИМ МУСАЕВ
КИРА КРЕСТЬЯНКИНА
ТАТЬЯНА РОГОЖИНА
ОЛЬГА БОРИСОВА
РУДОЛЬФ АРТАМОНОВ
НИКОЛАЙ МАКАРОВ
ГАЛИНА МАМЫКО
НИКОЛАЙ ТИМОХИН
АННА МАРТИНА
ЕВГЕНИЙ СКОБЛОВ
ЛЮДМИЛА АЛТУНИНА
ИРИНА НАЗАРОВА
СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ
ИРИНА АНДРЕЕВА
ГЕННАДИЙ МАРКИН
НИНА ГАВРИКОВА
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВ
ВЛАДИМИР ПЛОТНИКОВ
ИГОРЬ КАРЛОВ
ЕЛЕНА СТРИЖАК
ИРИНА НИКОЛЬСКАЯ
Лариса СЕМЕНИЩЕНКОВА
(г. Брянск)
 Родилась 8.11.1949 г. в п. Дубровка Брянской обл. Кандидат филологических наук. Автор научных работ по литературному краеведению, соавтор двух учебников по литературе Брянщины для студентов и учащихся общеобразовательных школ. Пишет пьесы, рассказы, сказы, сказки, стихи для детей. Автор 3-х книг. Лауреат премий и конкурсов. Член СП России, Союза писателей и мастеров искусств и Союза писателей Союзного государства России и Белоруссии.
Родилась 8.11.1949 г. в п. Дубровка Брянской обл. Кандидат филологических наук. Автор научных работ по литературному краеведению, соавтор двух учебников по литературе Брянщины для студентов и учащихся общеобразовательных школ. Пишет пьесы, рассказы, сказы, сказки, стихи для детей. Автор 3-х книг. Лауреат премий и конкурсов. Член СП России, Союза писателей и мастеров искусств и Союза писателей Союзного государства России и Белоруссии.
ИЗ БРЯНСКИХ СКАЗОВ ОБ АНЮТЕ-УЗОРНИЦЕ
Анюта-Узорница — сказочная покровительница рукодельниц, творчество которых издавна славилось на Руси. Способная творить чудеса, она помогает людям мастеровым, добрым, честным и наказывает тех, кто посягает на красоту и хочет разрушить наш мир. Анюта-Узорница оберегает природу, потому что в природе человек всегда находит образцы порядка, красоты и совершенства.
АНЮТА-УЗОРНИЦА
Про то, какие места Анюта-Узорница на Брянщине облюбовала, до сих пор люди спорят. Сегодня новозыбковские непременно скажут, что лучше их мастериц-рукодельниц во всей области не сыщешь, издавна удивляли они ткацкими узорами,— будто сама Анюта им свои секреты передала. Климовские ни за что не согласятся. Скажут, что каждая невеста у них еще в давние времена вышивала себе приданое; у многих старых людей по сундукам кое-что припрятано, чтоб молодых удивлять. Ну, а брянские сразу назовут Людмилу Алешину, Силакову Людмилу и других художниц-рукодельниц, что научились такие картины вышивать — далеко за границами о них слава идет… Вряд ли здесь без Узорницы обошлось… Да и сама она нет-нет — и напомнит о себе. Кто радуги не видел? Так говорят, что это Анюта-Узорница свои ленты сушить раскидывает после дождя, стало быть, там где-то и сама близко. Но если б кто задумал, все равно б не отыскал. Радуга-то, известно, над всей землей красуется, а краями иной раз за далекий горизонт уходит… Но вот почему Анютой ее у нас прозывают — такой сказ есть.
Давно это случилось. Жила в нашем, Брянском, уезде богатая барыня. Много у ней крепостного люду было. Поместье имела большое, хозяйство вела строго. При барине особенно не командовала, если только покапризничает для важности, но как овдовела, стала свой нрав проявлять. Чуть что не по ней — лучше на глаза не попадайся. Особенно следила, чтоб не своевольничали. Думать, и то не смей без ее на то позволения! Такой порядок установила, что иные соседи-помещики завидовали. И держала эта барыня рукодельню, какой ни у кого в округе не было. Собрала лучших мастериц в своих владениях, накупила самой тонкой, дорогой материи, ниток разных из столичного города выписала. Сидят мастерицы да вышивают для барыни наряды, скатерти, рушники, занавески, покрывала, а то и картины, чтоб по стенам развешивать и комнаты украшать… Не скупилась барыня, иногда и подороже платила коробейникам, чтобы к ней первой свой товар несли, зато и сама не в убытке была. Привезут, бывало, шитье мастериц на ярмарку — тут уж красота по самой высокой цене идет.
Рукодельниц своих барыня не обижала, но и спуску не давала. Вышьет девушка узор красивый, понравится барыне — может и гостинцем одарить. Но ежели не заладится работа или к сроку не получится — закроет в рукодельне и не выпустит до тех пор, пока гнев не сойдет… Всяко бывало. Но одну мастерицу, Анюту, барыня особенно жаловала. Что ни сделает Анюта — все лучше других выходит. То рисунок на скатерть придумает замысловатый, да так стежок положит, что обыкновенная гладь будто засияет… А то придумает для барыни чепец разукрасить — хоть вместо шляпы надевай… Все девушки из одного клубка нитки берут, да у Анюты они яснее в цвете, радостней кажутся. Не таила Анюта своего умения, объясняла подружкам. Стараются они перенять узор, глядь — а она уже новый вышивает, лучше прежнего. Все равно не угнаться за нею… Стала барыня Анютино рукоделье втридорога продавать, мастерицей своей не нахвалится, знай, прибавляет ей работы. И что ни прикажет барыня — Анюта все к сроку выполнит. Да не зря в народе издавна сказывали: «Барин похвалит — добра не жди». Дошло до того, что захотела барыня по справедливости вознаградить Анюту за ее старание и умение, а также другим рукодельницам для примера. Призвала Анюту и говорит: «Проси, что хочешь, ничего для тебя не пожалею. Хочешь — копейку дам. Или конфект в фартук насыплю, сластью побалуешься. А то разрешу тебе ленту выбрать любую, в косу вплести…» (Сами-то рукодельницы из бедности были взяты, не то, что конфет, нитки лишней не имели). Осмелилась тут Анюта, возьми да и скажи барыне: «Не надобно мне ни денег, ни нарядов, а дозвольте посвататься ко мне Степану, сыну конюха нашего…» Давно уж приглянулись Анюта и Степан друг другу, только ждали случая, чтобы объявиться. Да, видно, не в добрую минуту призналась Анюта. Рассказывали потом дворовые люди, что барыня после этих слов сначала сделалась белая в лице, потом покраснела, а потом как закричит да затопает ногами: «Как посмела ты без моего ведома думать про это! Не тебе решать, за кого замуж выходить, на то мое повеление будет! Не бывать по-твоему никогда! Ступай в рукодельню, а если своевольничать вздумаешь — Степана враз сошлю в солдаты, чтоб и духу его здесь не было!» Вернулась Анюта к подружкам ни жива ни мертва. Слов никаких не сказала, села к своему шитью. Да ее и расспрашивать не стали — все поняли. Посидела немного Анюта молча и взялась за иголку — надо к ярмарке картину вышивать, успеть к сроку, не то еще пуще озлится барыня.
Вышивает Анюта лебедушку белую… Плывет она по синему озеру, подняла крылья — будто лететь хочет… Стежок к стежку ложится, перышко к перышку льнет… Некогда Анюте горе горевать, да все ж набегают слезы непрошеные… Что за чудо? — Где упадет слеза, там будто капелька воды засветится, по крылышку покатится и застынет жемчужинкой… А то упадет — рассыплется ясным бисером, засеребрится рябью вода вкруг лебедушки… Вот перышко легкое упало на воду, плывет, как лодочка… Уже сумерки на дворе, плохо видно, а вышивает Анюта лебедь белую…
Поутру пришла барыня работу принимать. Увидала Анютину вышивку и полюбоваться не дала. Схватила лебедушку, в раму ее да скорее на продажу.
И случилось так, что приехал на ярмарку богатый купец со своей супругой завидущей. Как увидала купчиха лебедушку, так и пристала к мужу: «Хочу, чтобы картина эта мои покои украшала, да чтобы не одна птица, а целая стая таких плавала». Я, мол, люблю, чтобы всего у меня много было. И при этом желаю, чтоб сама мастерица мне прислужничала. «Как так получилось,— вопрошает,— что лучшее — не у меня оказалось, отчего я про такую мастерицу ничего не слыхала?..» А купец уж знал — если заладила настырная супруга, то лучше не спорить с нею. Давай он расспрашивать, откуда, мол, привезли да кто такое чудо сумел сотворить. Рассказали им про нашу рукодельню. Дал он за лебедушку большие деньги и сказал, что непременно желает к нашей барыне с визитом быть, очень уж хочется ее рукодельню поглядеть да для супруги своей заказы сделать.
Узнала барыня про это, обрадовалась: так ее товар хорош, что купцы сами едут. Приказала она мастерицам трудиться вдвое больше и стала гостей дожидаться.
Вскорости и заказчик пожаловал. Вдвоем с прислужником приехали.
Видит барыня — хорошие лошади у купца, резвые, так и рвутся с места.
Сбруя разукрашена, под дугой колокольцы звенят. Коляска новая, дорогая. А прислужник хоть и плюгавенький, да по-модному одет. «Богатый купец,— думает барыня,— продать бы товар подороже, не прогадать бы». А купец тоже не промах. Поглядел рукодельню, тут же Анюту приметил. И сама красавица, и шитье ее лучше, чем у других. Не иначе, как она лебедь белую вышивала. Стали купец и барыня торговаться, он ей и говорит: «Не продашь ли мне мастерицу, я много денег заплачу, в обиде не будешь». Обрадовалась барыня такому предложению. Крепостных девок, бывало, на собак меняли, а тут деньги предлагают. «Бери,— говорит,— какую пожелаешь. Выбирай». А он отвечает: «Я уж выбрал, отдай мне вот эту»,— и показывает на Анюту. Задумалась барыня. Понял купец, что верно угадал и начал цену набавлять. «Дам тебе двадцать пять рублей, если девку отдашь». «Хорошо платит,— думает барыня,— да, видно, мастерица моя подороже будет». Не согласилась. Но когда пообещал купец сто рублей за Анюту, не удержалась барыня. «Как отказаться, когда деньги сами в руки идут, да и Анюта сама не своя в последнее время, тает, чахнет на глазах — не иначе как болезнь внезапная приключилась. Может, и лучше за время с рук сбыть». Согласилась она на сто рублей и радуется — не прогадала, обманула купца. А купец по-своему смекает: «За одну лебедушку не меньше возьму». Посадили Анюту в экипаж, только что с родными проститься позволили, а на Степана и поглядеть в последний раз не успела.
Мчат кони резвые мимо полей родных, леса проезжают… Купец торопится, лошадей подгоняет. Анюта ни слезинки не уронила — видать, все слезы еще раньше выплакала. Тут и случилась оказия. Как только взлетели кони на пригорок, стали, как вкопанные. Бьет их купец, хлещет кнутом, а они только ногами перебирают, ушами треплют — а ни с места, как будто держит кто. Не поймут купец с прислужником, в чем дело. Солнце высоко стоит, день жаркий, умаялись совсем, а все без толку. Взглянул купец на Анюту. Сидит она бледная, еле дышит, только что живая. «Вот как не довезем, помрет девка,— думает купец.— Деньги-то большие отданы!» Говорит ей: «Испей воды, а то жарко, да ехать еще далеко. Не из чего тебе горевать. Будешь у моей супруги в городе первой швеей, супруга у меня добрая. Если понравится твоя работа да слушаться будешь, отдаст тебя замуж за лучшего своего лакея …» Как будто еще бледнее стала Анюта и тихо так говорит: «Дозволь, барин, посидеть на пригорочке, поглядеть в последний раз на места родные…» Купец обрадовался, что проговорила Анюта, приказал своему прислужнику вывести ее, пока кони отдыхают, да глаз с нее не спускать, чтоб не убежала. Пусть, мол, посидит в тени, поди, тоже человек…
Подошла Анюта к березке да и обхватила ее руками, как подружку.
А с пригорка далеко видно. Видит она, как поле широкое до самого края земли раскинулось. По зеленому полю вьется речка синяя, то шире разольется, с солнышком поиграет, то меж кудрявых кустиков спрячется. Пригрелись березоньки на дальнем пригорочке, набирают силу от земли, тянутся к небу высокому. А в голубой вышине жаворонок заливается, звенит свою песню, радуется воле пташка малая… Даже купец с прислужником загляделись… Разве в городе такое увидишь?.. Покатились по щекам Анюты слезинки…
И тут над полем радуга явилась. Сначала чуть видная, а через минуту-другую широкой лентой повисла — всеми цветами заиграла. Что такое? В небе ни облачка, а радуга — как после дождя летнего. Дивятся купец с прислужником, про Анюту забыли. А радуга постояла над полем и пропала, как ничего и не было. Опомнились они, обернулись — нет Анюты. Убежала девка! Бросились они искать, всю рощу облазили, каждую березку осмотрели — роща-то небольшая — не могут найти. И по дороге не видать. Времени мало прошло, далеко-то не убежишь. Куда подевалась? Совсем с ног сбились, не поймут ничего. А как бегали вкруг березы, так лбами столкнулись, повалились друг возле друга, подняться не могут. Поползли к коляске. «Никак, знает плутовка потайные тропки, надо к барыне ворочаться, да там и ждать,— думают.— Куда ж ей еще податься?» Залезли они в коляску, чтоб назад повернуть, а кони как того и ждали. Рванули с места так, что купец с прислужником чуть из коляски не выпали. Кричат они, остановить коней хотят, а у тех как будто крылья выросли — несутся, земли не чуют. Так, рассказывали люди, до самого города неслись, чуть живых привезли. Купец все бока отбил, долго маялся потом, не до того было ему, чтоб снова к барыне ехать. Супруга его поскандалила да успокоилась быстро. Нашла себе другое занятие — деньги проживать, за границы ездить и тамошнее общество своей простотой дивить. Сказывали, что променяла лебедушку на безделушку иностранную, заводную — деревянное чудище. Нажмешь кнопку потайную — начинает вращать глазами круглыми и кричит страшным голосом. Как привезла, так первым делом своего супруга испугала чуть не до смерти…
А вот Анюта нигде не объявилась, пропала девка. Но что интересно — у нашей-то барыни дело совсем развалилось. Как отдала Анюту, так все наперекос пошло. Привезут товар на ярмарку, а никто не подходит. Продадут кое-что, да больше назад привезут. И гневалась барыня, и рукодельниц своих наказывать пробовала, да все напрасно. Зато у других помещиков рукоделье пошло, стали они к себе покупателей переманивать. Видит барыня — убыток один у нее, и распустила рукодельню. Деньги те, что за Анюту взяла, тоже не впрок пошли. Купила у соседа рощу, в которой много дичи велось. И что ж? Пойдут мужики стрелять — как заговорено: ничего не принесут. Кружатся над ними вороны, охотники только отмахиваться успевают. Уж эту рощу стороной обходить стали.
Долго ли, скоро ли — разговор среди людей пошел, что то тут, то там в наших местах Узорница объявляться стала. Одной мастерице рисунок подскажет хитрый, другую ниткой особенной одарит: станет та вышивать, и если узор интересный, то нитка эта тянется, не кончается… А то может и подучить, как ловчее узелок завязать, потайной стежок сделать… И сказывал кто-то, что лицом девица точь-в-точь, как Анюта: такие ж глаза у нее ясные, васильковые, коса русая до пояса, да и росточком тоже небольшенькая… Потому и прозвали Узорницу у нас Анютой. Хотя и разница заметная. Наряды на Узорнице, каких ни одна красавица не носила. Характером бойкая, насмешливая. Анюта, бывало, робко смотрела, чаще опускала глаза печальные, а эта весело, смело глядит… Иногда только, в редкую минуту, вдруг как грустинка в глазах покажется, будто вспомнит что-то… Есть у нее и свои приметинки: в косу обязательно лента радужная вплетена, и, если приглядеться, то на пальце можно наперсточек простенький увидать. Похоже, что непоседлива Узорница, всякий раз в новом месте объявляется — к мастерицам льнет, а их у нас, известное дело, много и в селах, и в городах на русской земле. Но если кто задумает обидеть рукодельницу — непременно надо гостью ждать. Обидчику лучше с нею не встречаться. Про то у нас много сказов есть.
Анна МАРТИНА
(г. Серпухов Московской области)
 Анна Колесова (Анна Мартина), 1992 г.р. Училась в Протвинском лицее №2. В 2007 г. окончила Протвинскую городскую художественную школу. В 2014 г. окончила Серпуховский филиал РГСУ по специальности «Специалист по социальной работе». Пишет стихи и прозу с 2007 г. Из жанров предпочитает мистику, детектив и философию. Член литобъединения «КЛИО» г. Серпухова, победитель конкурсов «КЛИО». Вступила в Московский Совет ЛитО при СП РФ и в том же 2016 г. победила в конкурсе МС ЛитО в номинации «Дебют». Имеет публикации в сборнике «Созвучие», в газете «Серпуховские Вести».
Анна Колесова (Анна Мартина), 1992 г.р. Училась в Протвинском лицее №2. В 2007 г. окончила Протвинскую городскую художественную школу. В 2014 г. окончила Серпуховский филиал РГСУ по специальности «Специалист по социальной работе». Пишет стихи и прозу с 2007 г. Из жанров предпочитает мистику, детектив и философию. Член литобъединения «КЛИО» г. Серпухова, победитель конкурсов «КЛИО». Вступила в Московский Совет ЛитО при СП РФ и в том же 2016 г. победила в конкурсе МС ЛитО в номинации «Дебют». Имеет публикации в сборнике «Созвучие», в газете «Серпуховские Вести».
«МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ»
Это было наше беззаботное детство. Нельзя сказать, что совсем уж и беззаботное — я знал, что рано или поздно, возможно, лет через шесть, а может и через десять, передо мной встанет вопрос правления. Неважно, буду ли я помогать Мирче в качестве его правой руки, или же сам займу место на троне — отец говорил, что из меня получился бы хороший князь, и он мог бы мной гордиться. Я жил одновременно в двух мирах — в осознании грядущих обязанностей, в желании стать лучше, узнать как можно больше, овладеть языками и сражаться на мечах так же, как отец. А может, даже лучше. Тогда я думал, что противника можно сразить только в честном ближнем бою. Запугивание его мертвыми гнилыми телами на кольях, выжигание земли и отравление колодцев, лживые соглашения и манипулирования, династические браки еще не были знакомы мне. Я полагался только на свою силу. Впрочем, это и в дальнейшем наложило немалый отпечаток на мою судьбу, которая преломилась после поездки в Турцию.
А сейчас ничто это мне не было еще знакомо. Вторым миром было как раз это детство — солнечный зайчик, прыгающий по деревянному столу; журчащий ручей, скачущий звонко по камушкам; мыльный пузырь, переливающийся всеми яркими цветами. И такой же призрачно-недолговечный.
На мою голову, как снежный ком, свалилась забота о младшем брате Раду. Почему как снежный ком? Хотя бы потому, что поначалу это представлялось мне обузой и посягательством на мои детские права, на мою свободу веселого времяпрепровождения и детских игр, на мои забавы со старшим братом Мирчей. Но старший рос и, как ни грустно было это признавать, отдалялся от моего мира, его забирали в новый, готовя к правлению, посвящая во взрослые таинства, которые и я хотел знать, в которых и я хотел участвовать, но еще не мог. И, пожалуй, еще потому, что Раду был неутомимым любопытным ребенком, по временам мне казалось, что я устаю от его вечного скакания вокруг меня, надоедливых расспросов и бесполезной болтовни. Я жаловался на это Мирче, а он, вместо того чтобы согласиться со мной, только молчаливо улыбался, и в такие моменты его лицо выражало то снисходительное отношение взрослых к детям, что мне становилось тоскливо, что он так быстро отделился от моего мира. Он ничего не объяснял мне в такие моменты, только хлопал по плечу, а потом рассказывал истории о боярах, о соглашениях между странами и об учителях, которые преподавали ему уже иные уроки, чем мне. Я заслушивался его. Когда из любопытства я задал ему вопрос, только тогда я поймал себя на вполне четкой мысли, что поступаю по отношению к старшему так же, как Раду держится со мной. Это была такая ясная, оформленная и внезапно свежая мысль, что слушать ответ Мирчи вместе с ней оказалось многажды приятнее. Теперь и я смотрел на него со спокойной улыбкой, будто снова сократив между нами расстояние, будто говоря — «Я знаю то, что ты знаешь». Стоило мне понять эту простую истину, и все стало сразу легче. Исчезла тяжесть заботы о младшем брате, вместо этого мне захотелось защищать его, иметь над ним покровительство старшего, не допустить, чтобы он совершил ошибку. Я как мог отвечал на его вопросы, или выдумывал необычные ответы, и сам поражался своей фантазии в такие моменты. Видя эту перемену во мне, Раду и сам обрел спокойствие — по всему видно было, что раньше всеми правдами и неправдами, всеми своими силами маленького человека он пытался привлечь мое внимание и проникнуть в мой мир, изнемогая от того, что никак не может это сделать, докучая и мучаясь от этой настойчивости. Сейчас же его капризность словно бы уменьшилась, и печаль, в которой я порой его заставал, развеялась лучами радости.
Вспоминая его, я неизменно вспоминаю наши причуды детства. Восхищение миром было в нас чистым, мы растворялись в нем, отдаваясь каждому дню с той непосредственностью и наивностью, с какой могут любить мир только дети. Тогда уже я любил смотреть на сине-зеленые горы, зубастые, воздевшие свои пики над безмятежным небом, отправляющим в странствие пушистые, густые облака. Лес приветливо махал своими листами, шелестя песни о мире и о свободе на своем, не румынском языке. В тот день Раду попросил показать мне горы. Маленький, шестилетний мальчишка, он крепко держался за мою руку своей теплой ладонью, и колоски, и метелки в поле доставали порой ему до плеч. Он тогда тер ладошкой щеку, говоря, что травы его «чекочат». Я объяснял ему, что это природа здоровается с ним и зовет с собой поиграть. Мы шли дальше, и иногда у меня возникало опасение, что дома нас уже принялись искать — мы ушли, ничего не сказав, сбежав с урока, и дома отец наверняка будет сердиться и отвесит подзатыльник — как он всегда любил делать, когда требовалось наказать нас, при этом понимая наше желание улизнуть. Поэтому в нашей прогулке было что-то запретное, горячило кровь и вело нас вперед. Мы ведь уже ушли — было бы глупо поворачивать теперь назад. Да и оба мы не пугались и не робели, ведомые интересом, а Раду было спокойно, ведь он держал мою руку, а я был его старше. По пути к горам, мы свернули к речке. Я умылся и выпил воды, страдая от жажды — полуденное солнце припекало, макушка была горячей. Раду зашел вслед за мной в воду, намочив босые ноги и чувствуя камушки и песок. Ладошки его касались глади реки, глаза лучились, а на лице появилась улыбка. Я не мог понять, отчего он радуется таким простым вещам. Но было в этих действиях нечто отличающее его, делая не похожим на нас с Мирчей. Может, еще потому, что у нас были разные матери и младшему братишке время от времени приписывали черты его матери. Сейчас, почти по колено в воде, маленький, с румянцем на щеках и каштановыми кудрями, обрамляющими лицо, с этим радостным выражением его, он был ближе к рыбам и птицам, к кронам деревьев, к маленьким ящеркам и солнечным бликам, ближе к горам, к которым он шел, чем кто бы то ни было. Этот мир шептал ему свои тайны, и он принимал их. Они казались заговорщиками, которые увели меня из скучной реальности, от моих внутренних убеждений стать хорошим учеником и послушным сыном, дерзнуть и хоть немного откусить плод своеволия. Сейчас Раду учил меня, и за эти уроки я тоже был ему благодарен. Шлепнув ладонью по воде, я брызнул в его сторону. Братец очнулся от размышлений, встрепенулся и стал брызгаться в ответ. Он не злился на меня и не жаловался, ему сразу стало интересно. Лицо его смеялось, кудри прыгали, и мы оба настолько увлеклись игрой, что не заметили, как стали мокрыми от нашей забавы. Раду заслонялся руками, с новой силой принимался брызгаться, а потом и вовсе убежал от меня на берег. Приятная прохлада воды освежила нас, день не казался уже таким мучительно жарким. Я последовал за ним, присев на траву и зачерпнув горсть камушков, стал кидать их в воду один за другим. Река проглатывала их, забавно при этом булькая. Раду, лежа на траве и прищуриваясь от попадающего сквозь листву деревьев солнца в глаза, спросил, почему мы не видели рыбок. Они далеко от берега, к тому же глубже под водой, ответил я. И добавил, что когда отправимся все вместе на рыбалку, тогда можно будет посмотреть на рыб. Раду довольно улыбнулся, пошевелив пальцами на ногах, и сказал, что будет здорово и что они гладкие, скользкие и очень смешные. В последний раз, когда Мирча дал ему в руки рыбешку, младший братец не смог даже удержать ее в руках. Я тоже подумал, что будет здорово смотреть на их серебристые спинки, как они захватывают воздух своими губами, и согласился, что стоит уговорить отца. Рассказал я ему еще и то, что Мирча уже бывает с отцом на охоте. Перевернувшись на живот и подперев щеки кулачками, он заворожено слушал меня, не перебивая. Раду всегда был благодарным слушателем, поэтому выдумывать новые истории или рассказывать старые случаи рядом с ним было всегда интересно, это приобретало новые оттенки и краски, будто я реставрировал свои воспоминания и заново пробовал их на вкус.
Пролежав какое-то время, мы поднялись и продолжили наш путь. Иногда Раду устало спрашивал меня, долго ли еще идти, но стоило завидеть ему фигуру в облаках или интересный цветок, как он тут же увлекался этой игрой, забывая обо всем. На солнце наша одежда быстро сохла, и скоро уже снова ветер пузырил рубашки, как флаг. Мы шли по тропинке, и время от времени я срывал травинки и метелочки, мусоля их в губах. По пути нам попадались дома с соломенными крышами, чем-то теплым и домашним веяло от них, запахами домашнего скота и молока. Это не было нашим домом и скорее напоминало о служанках, но сейчас мы были частью и этого мира тоже. Проходили крестьяне с вилами и косами в руках, пробегали задорные крестьяночки в легких, узорчатых сарафанах. Я дотянулся до яблони, великодушно протянувшей через забор свои ветви, и сорвал нам с Раду сочных, розовобоких яблок, сладких еще больше потому, что это было нашей маленькой шалостью, что мы шли в своем увлекательном странствии и что мы несколько часов уже ничего не ели. В сторону гор ехал мужчина — руки его были в мозолях, грубоватые, и ласково светились простодушные глаза труженика. Он спросил нас, откуда мы, и звонко рассмеялся, когда я сказал, что мы княжеские дети. Я уже хотел было рассердиться на него за то, что он не верит мне, но чем я смог бы доказать обратное? Мы одни убежали из дома, и никого из взрослых с нами не было, а после нашей игры на реке волосы немного взлохматились. Раду одернул меня за рукав и лукаво взглянул, приложив палец к губам. Тогда я понял, что он хочет, чтобы мы оставили это в секрете, чтобы это была только наша тайна. Мы играли роли обычных детей, смотря на людей с оттенком превосходства, нас объединяла наша тайна, и оттого путешествовать стало еще приятнее. Мы с Раду сели в повозку — крестьянин согласился нас подвезти до самых гор, сено немного кололо через рубашку, но мы откинулись на него, уставшие после долгой ходьбы. Братец прижался спиной ко мне, недовольный тем, что сено колется, и смотрел по сторонам, иногда указывая мне на птиц, пытаясь подражать их голосам, и передразнивал их, смеясь. Нас обоих не заботило то, что нас могли потерять, что вот-вот на горизонте мог появиться всадник из людей отца.
Мы поблагодарили крестьянина, который свернул на другую дорогу, оставив нас стоять возле возвышающихся гор. Жара уже спала, и все кругом наполнилось предвечерним спокойствием, в воздухе разливался сладковатый аромат. Раду поднял глаза вверх, жадно осматривая созданных природой великанов, и закрыл их затем, глубоко вдохнув. Я стоял в стороне и смотрел на него, маленького чародея, маленького колдуна, общающегося с природой и духами, шамана, управляющего ветрами, дорогами и звездами. В такие моменты он казался мне не маленьким мальчиком, а лишенным времени и возраста мудрецом, слугой на алтаре красоты, монахом божества, имени которого я не знал, но это был больше, чем наш знакомый привычный Бог. Раду вдруг сорвался с места, расправив руки, как крылья, и я, со всей своей проворностью, едва поспевал за ним. Горы возымели над ним такое действие, словно это не он еще недавно преклонил голову у меня на плече. Он учил меня сейчас, что мы не только дети нашего отца, не только наследники валашского трона, но еще и дети природы, мы в равной мере принадлежим и ей, откликаемся на ее зов, читаем ее знаки, учимся радоваться ей и быть ей благодарными. О, как же завидовал я ему, ведь я не был посвящен во все таинства этой связи, не мог понять до конца, что он испытывает и чувствует. Уже тогда он был прекрасен, но не потому, что у него были идеальные черты лица или нечто особенное в цвете синих глаз — просто его радость, воодушевленность и наслаждение моментом так потрясали, что невольно начинаешь задумываться, насколько прекрасна в своих творениях жизнь. В каждом изгибе корня, в прожилках листа, в форме цветка или узоре на камне — во всем была своя особенная, уникальная жизнь, присущая только ей черточка. И за эти знания, как за еще одни уроки, которые никто не преподал бы мне, кроме него, я был благодарен.
Со всей самозабвенностью принялся я догонять Раду, говоря, что поймаю, раскидывал руки. Братец прятался от меня за дерево, появляясь то с одной стороны, то с другой — смотря куда порывался я, норовя ухватить его за руку или край рубашки. Он был словно лесной эльф — казалось, вот-вот упорхнет от меня на ветку дерева или цветок собирать пыльцу. Лимонно-желтая бабочка резвилась над его головой, такая же радостная и полная жизни, неповторимых линий ее маленьких крыльев. Потом я поймал его в свои руки, защекотав, и голос его смеха был похож на журчание той реки, у которой мы были сегодня. Каждое место, с которым мы поздоровались, в котором мы были и которое просто удостоили взглядом, оставляло на нем свой отпечаток. Природа обнимала его, своего любимого сына, так же, как я сейчас поймал его в свои руки. Я был счастлив радоваться с ним и знать, что ни отец, ни Мирча не видят сейчас его таким, не знают, что это сказочный принц в короне из зеленых и золотых листьев, что это мифический полубог в сотканном из серебряной паутины плащом с каплями дождя на ее нитях. Все ему было ведомо, в каждом жесте говорила безмерная Вселенная, я любовался им и тогда еще подумать не мог, что его искренность и открытость, его многоликость и непосредственность: изящность стебелька и проворность белки, озорство солнечных лучей и неуловимость рыбки привлекут к себе чужое внимание, что все это откликнется опасностью, варварской стрелой в блаженно тихом лесу. Что, как любую зверушку, мне следует его защищать больше, чем кажется на первый взгляд, что все это не так непреходяще и вечно и нуждается в ласковом прикосновении тихого созерцателя. Поднявшись чуть выше в горы, мы присели под деревом, а потом он и вовсе забрался на ветку, болтая ногами в воздухе и насвистывая несложную песенку, которую я с готовностью подхватил. Наши голоса перемежались с трелями птиц, поющих и зовущих друг друга, и я совершенно потерял всякое значение времени.
В таких подробностях я помню это маленькое летнее событие потому, что оно произвело тогда на меня сильное впечатление. А уж потом, когда моменты радости, веселья и благодатного участия и единения с природой медленно стали угасать и вовсе исчезли, когда на нашем пути оказалось много жестокости и боли, через которую, как через реку, полную грязи и песка, поломанных веток после грозы, нам пришлось пробираться — так вот, потом эти сладостные моменты стали еще более дороги моему сердцу, отголоском напоминали они о себе и манили, желая не возврата в прошлое, но обретения снова этого единства со всем живым, единства с самим собой.
Прохлада вечера уже ощущалась в нашем скромном убежище, в этом месте, куда мы явились в гости, и вскоре я поднялся с земли, отряхнулся и, взглянув на Раду снизу вверх, сказал, что нам пора возвращаться домой. Он не капризничал, не возражал, а просто спрыгнул с дерева. Я поймал его, и мы оба завалились на землю. Он наполнился этой силой, налит до самых краев. Наступит ночь, и его глаза загорятся, как прочие звезды — я был уверен в этом. Какое-то время мы шли, как утром, держась за руки, а потом он попросил меня уставшим голосом понести его на себе, даже не предполагая иного варианта, кроме как моего согласия. Я действительно согласился и повез его на спине, а Раду, прильнув, обнял меня своими ручонками за шею. Мы долго молчали, и мне даже казалось порой, что он спит. Мне было интересно, какие же сны видит это юное создание, какие чудеса ему открываются там и как он их комбинирует, как играет с ними и кем он там предстает. Я знал, что нам непременно достанется за нашу прогулку, но впечатления от нее были настолько сильными, что ничто не могло перекрыть этих знаний, этих эмоций. Я уже заранее знал это и гордился тем, что только мы оба прочувствовали это, что и в нашем, таком хрупком и невечном детском мире, намного более коротком, чем мир взрослых, есть свои тайны и истины, которые недоступны взрослым. Я был преисполнен этого чувства, и открыл мне его младший брат.
А на небе начали показываться первые ясные звезды и часть луны, провожающие нас домой.
Ирина КЕДРОВА
(г. Москва)
 Прозаик и драматург. Член СПР. Член редколлегии альманаха «Московский Парнас» и всероссийского ордена Г.Р. Державина литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори». Член Академии Российской литературы. Лауреат премий, дипломант фестивалей и конкурсов. За верное служение отечественной литературе имеет литературные ордена и медали. Профессор Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук.
Прозаик и драматург. Член СПР. Член редколлегии альманаха «Московский Парнас» и всероссийского ордена Г.Р. Державина литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори». Член Академии Российской литературы. Лауреат премий, дипломант фестивалей и конкурсов. За верное служение отечественной литературе имеет литературные ордена и медали. Профессор Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук.
КРАТКИЙ МИГ ТАШИНОЙ ЖИЗНИ*
Таша родилась в пятнадцатом году. Маленькая кнопочка — свидетельство последней радости родителей перед уходом отца на германский фронт. Она лежала, завернутая в простыни, на большой материнской кровати. Мама Ташина, Анна Свирская, в недалеком прошлом гордая красавица, находилась в свободном полете. То увлекалась пением или живописью, то писала пьесы для театра, а то служила в каком-то заведении, перебирая никому ненужные бумаги.
Еще у Таши есть сестра Валерия, девочка четырех лет, которой мама несказанно гордится. И есть чем гордиться: белокурые волосы обрамляют тонкое одухотворенное лицо, на котором сияют, словно звезды, синие глаза, смотрящие на мир необыкновенно внимательно. Эта девочка кажется много старше своих лет, будто все понимает и многое знает. Когда мать берет ее в театр на репетиции, Лера, так все ее называют, сидит тихо, не шевелясь, пытаясь понять сложные трагедии, разыгрываемые на сцене. Когда же Анну охватывает литературная лихорадка, то первым слушателем становится опять же Валерия. Со дня Лериного рождения мать и дочь стали подругами и вместе лелеют в себе одно и то же чувство любви к отцу. Вместе ожидают его возвращения.
Таша отца не видела: он сражается на далеком фронте. Первые месяцы жизни девочка лежала на кровати, мешая матери заниматься творчеством, а сестре наслаждаться положением единственной материнской любимицы. Впрочем, тогда Таша об этом не задумывалась. Главное, чтобы сухо было и вовремя текло вкусное молоко. Сухо бывало не всегда, поскольку маме постоянно некогда, а молоко тоже скоро закончилось, и Таша пила из соски какую-то бурду.
Когда малышка научилась ползать, ей, конечно, захотелось все внимательно рассмотреть и попробовать на язык. Это оказалось опасным, и мама стала привязывать дочку к кровати, тем самым сокращая свободное пространство для изучения мира. Таша горько плакала, не понимая, почему мама не замечает, что она тоже хочет стать такой же всезнающей, как сестра. Все познать и понять — разве это дело только для четырехлетних? У нее тоже есть такая потребность. А потребности вредно ограничивать.
Часто мама уходила надолго из дома, забирая с собой Леру, а Ташу оставляла привязанной к кровати. Нет, девочка не обижалась, она понимала: маме трудно нести ребенка на руках, завернутого в тяжелое одеяло — единственное в доме, поскольку все остальное благополучно продано или пущено в прожорливую буржуйку.
Однажды Таша встала на ноги. Какое это счастье — увидеть дом с высоты своего роста, пусть и небольшого! Она даже сделала пару шагов, цепляясь за кровать, и упала, больно ударившись. Плакала сильно, чтобы мама услышала и прибежала. А мама не появилась. Когда же она пришла, Таша уже уснула, уставшая от обиды и слез. Труд оказался непосильный — докликаться родных.
Иногда к маме приходили актеры. Особенно Таше нравилась веселая и добрая Полина. Та подхватывала маленькую девочку, целовала ее, прижимала к себе. Таше становилось тепло и уютно, и ей хотелось, чтобы добрая тетя подольше с ней посидела. Тут входила мама и говорила:
— Не балуй мне ребенка. Она должна быть самостоятельной. В наши дни иначе не выжить.
— Ну что ты такая сердитая, Аня? Девочке любовь нужна. Посмотри, как тянет она ручки ко мне.
— Ты уйдешь, а я что буду делать, если дочери любви станут требовать? Мне их кормить надо, а ласкать некогда.
Таша соглашалась с мамой сразу: кормить, в самом деле, надо, только жаль, что Леру она иногда целует, и шепчется с ней, и стихи ее учит читать. А Таше, еще не умеющей говорить, не скажет ни полсловечка, и всегда торопится. Торопится накормить, торопится искупать, торопится спать уложить. Очень трудно расти ребенку, если мама постоянно спешит по важным делам.
Потом произошли какие-то непонятные события, о которых возмущенно говорили взрослые. Странное и трудно произносимое слово «революция» возникало у всех на губах. Очень симпатичное слово «вэчека», напоминавшее какого-то бычка, почему-то пугало маму. Короткое слово «советы» вызывало удивление: они постоянно создавались и за что-то боролись. Это было время, когда Таша упрямо пыталась начать говорить. И говорить ей хотелось свободно и легко, как говорила Лера. Маме нравились слова и образы, создаваемые старшей дочерью.
— Мамочка, какое ненастье наступило! Мы потонем в потоке безобразий,— назидательным тоном говорила Лера, глядя на мать умным, не по возрасту, лицом.
Сестра и вправду была очень умной, хотя и неправильно вставляла в свою речь отдельные слова, но Таша не додумалась бы так значительно сказать.
— Каких безобразий, Лерочка?
— Все говорят об убийствах и расстрелах.
— Где ты такого наслушалась? Нельзя маленьким девочкам о таком говорить.
— Твои друзья так говорят. Мамочка, а что такое убийства и расстрелы?
Если бы Таша могла так говорить, то обязательно бы рассказала. Она ведь тоже слушает маминых друзей. Им кажется, что она ничего не понимает, а она все понимает. Знает она, что убийства и расстрелы — это очень плохо, потому что люди, живущие вокруг, пропадают. Был человек, и нет его. Знает и про то, что папа стал белым. Непонятно, как ему это удалось. Вот у Леры белые волосы, а у мамы белая кофточка, простыни тоже белые, но чтобы папа стал белым — это непонятно. Да и где ее папа?
Если война закончилась, ему пора вернуться, увидеть Ташу и полюбить ее. Она ведь его любит всем своим маленьким сердцем. С упоением слушает мамины рассказы о том, как они с папой познакомились, как подарил он ей дивный браслет, а потом сделал предложение. Как поженились они и вместе ждали, когда Лера появится на свет. Папа бережно ухаживал за мамой, и трогательно ухаживал за Лерой. Он бы и за Ташей ухаживал, да ушел на войну.
Зачем взрослые люди придумали войну? Разве мало беды вокруг? Есть болезни и смерти, есть голод и холод. Зачем же нужно такое испытание, чтобы папа не видел родившейся дочки, а мама плакала по ночам, переживая, что не в силах одна растить дочерей? Страшные слова и страшные события понимались Ташей и отражались в ее взгляде.
— Аня,— говорила Полина,— гляди, какой у Таши взгляд: он такой глубокий. Что знает эта девочка?
— Что она знает? Голод она знает. Мне детей кормить нечем. Вчера достала по случаю мороженую картошку. Гадость несусветная. А молоко? Ты знаешь, сколько стоит молоко? Все, что было в доме, я выменяла на еду.
— Давай я отвезу малышку к родным в Калугу. Они ее подкормят.
— Ну что ты говоришь, Полина? Разве можно сейчас расставаться? Может, Костя вернется? Хоть бы на часок заехал.
— И попадет в ЧК?
— И то правда. Он где-то на Дону, и если в ЧК дознаются, представляю, что с нами будет.
— Что же они с детьми воевать станут?
— Расстреляли же царских детей.
— То совсем другое дело. Те дети — наследники престола, а твои что наследуют? Мать — певица, по совместительству писательница.
— Нет, я по совместительству газето- и письмочитательница. Це-
лыми днями провожу в конторе и не вижу в этом смысла. Правда, иногда дают какие-то продукты. Только на них не проживешь.
Однажды мама узнала, что в нескольких километрах от Москвы есть детский дом для безродных и безотцовских детей. Она отвезла туда Леру и Ташу, надеясь, что там девочки переживут голодную зиму. Бедная мама! Она не знала, что женщины, работавшие в детском доме, тоже есть хотят, и у них есть свои дети, потому продукты, выделявшиеся советской властью на детдомовцев, делились на многие-многие части. Лишь крохи доходили до обитателей дома. Голод, болезни и смерти преследовали детей.
Таша и Лера заболели спустя месяц. Сестры лежали в полутемной комнате. Добрая тетя приносила им пить. Лера в бреду звала мамочку, а Таша говорить не могла, не хватало сил. Она вообще не говорила, словно разучилась. Ее здесь так и звали: «немая».
Жар палил Ташу изнутри, кожа прилипала к костям и, казалось, что от этого жара кожа вообще с костей слезет. Иногда девочка пропадала в забытье: сплошная темень окутывала ее, и ничего не было. Не было мамы и Леры, не было папы, не было детского дома и воспитательниц. Когда же Таша возвращалась назад, то первой ее мыслью было позвать мамочку.
Если бы мама знала, в каком горе живут дочери, то обязательно приехала бы. Но мама выживала где-то в Москве. Если бы папа знал, как ждет его Таша, как смотрит на каждого мужчину с вопросом: «Ты мой папа?». Он бы вырвался издалека, примчался бы к дочке, взял бы ее на руки и сказал бы: «Ташенька, девочка моя, я так к тебе спешил!». Он бы вывез их с сестрой отсюда, и дал бы им вкусного молока и по ломтю хлеба. Он одел бы их в теплые одежды. И жар бы у девочек спал, и болезнь бы отступила, испугавшись маму и папу. Только мама не знала, как плохо дочкам, а папа не мог вырваться от своих белых людей.
В серое мартовское утро Лера проснулась и почувствовала, что болезнь испугалась и сбежала от нее. Она выбралась из кровати и подошла к сестренке. Та смотрела расширенными глазами, словно спрашивала: «За что?». Лера погладила Ташу, сестренка показалась ей слишком холодной. Тогда она вышла из комнаты, прошла по коридору и позвала тетю Зою, спавшую в углу на лавке. Тетя Зоя пошла вместе с ней к Таше, у ее кровати охнула и накрыла девочку простыней по самые вихры, торчащие на затылке.
— Пойдем отсюда, деточка. Тебе надо в другую палату перебраться.
— А как же Таша? Я без нее не пойду.
— Ты не нужна ей больше. Умерла она.
Взрослая девочка Валерия поняла: теперь они остались с мамой
одни, и будут вдвоем ждать папу.
Вскоре за дочками приехала мама. Ее встретила одна Лера. Таша выбрала свой путь. Недалеко от детского дома возвышались холмики, под одним из них покоилась четырехлетняя девочка, так и не понявшая, зачем пришла она в земной мир.
Евгений СКОБЛОВ
(г. Москва)
 Прозаик, член МГО СПР, Академии российской литера-туры. Автор восьми книг прозы. Участник многих периоди-ческих литературных изданий, сборников и альманахов. Три книги Евгения Скоблова включены в действующий фонд ФГУ Российская Государственная библиотека. Лауреат литератур-ных премий, дипломант конкурсов МГО СПР.
Прозаик, член МГО СПР, Академии российской литера-туры. Автор восьми книг прозы. Участник многих периоди-ческих литературных изданий, сборников и альманахов. Три книги Евгения Скоблова включены в действующий фонд ФГУ Российская Государственная библиотека. Лауреат литератур-ных премий, дипломант конкурсов МГО СПР.
«ИКАР ХВ-1»
(Глава из повести «Коллекционер будущего»)*
Что может быть для молодого человека, лет двенадцати, огорчительнее несбывшегося желания? В мире, полном удивительных, захватывающих событий и прекрасных вещей, когда до определенного возраста исполняется почти все или очень многое, чего не пожелаешь... И когда, вдруг, случается, что вполне безобидное желание по каким-то причинам сбыться не может (не получил желаемую игрушку, друг пообещал что-то и не сделал, и много чего еще), это почти всегда — маленькая трагедия, которая оставляет след в памяти и душе, в восприятии окружающего мира.
В гарнизоне, где служили наши отцы, для нас, мальчишек и девчонок, большой и загадочный мир был несколько ограничен. Двор в окружении трех домов офицерского состава, школа, куда нас каждый день доставляли на автобусе в другой город, спортивный зал и клуб на территории воинской части.
Спортивный зал посещали ребята постарше, там один из солдат — мастер спорта по боксу проводил с ними занятия и тренировки. Те же, кто поменьше, ученики младших классов, в основном болтались в районе расположения клуба. Нет, конечно, были и другие интересные места, например, танкодром или стрельбище, но ходить туда было небезопасно, могли поймать и строго наказать. В «разрешенных» местах числились автопарк, спортивный городок, и, собственно, сам небольшой чехословацкий городок с названием Крнов.
Клуб был местом, где проводились различные торжественные мероприятия, концерты художественной самодеятельности и показывали кинофильмы, доставлявшиеся из штаба Центральной группы войск, а туда, непосредственно из Советского Союза. Для солдат и сержантов были свои сеансы, а для офицеров, сверхсрочников и членов их семей фильмы показывали отдельно. Мы же старались попасть на все фильмы, хотя сеансы для рядового и сержантского состава нам, мягко говоря, посещать не рекомендовалось. Зрители часто громко и нецензурно выражали свое отношение к тому, что происходило на экране, и считалось, что это может не лучшим образом повлиять на детское неокрепшее сознание.
Именно в этом солдатском клубе я впервые посмотрел такие шедевры советского кино как «Джентльмены удачи», «А зори здесь тихие...», «Война и мир». Показывали, конечно, и «про индейцев» ге-де-эровского производства, очень много о войне, а также «взрослые» и не очень понятные для нас фильмы. Но среди всех, эти запомнились навсегда — именно в привязке к этому солдатскому клубу, и к тем временам.
Однажды папа сказал, что к праздничным дням (по-моему к Дню Советской Армии и Военно-Морского флота) в часть привезли несколько новых и очень интересных кинокартин, среди которых, имеется (подумать только!) фантастический фильм чехословацкого производства, под названием «Икар ХВ-1». В то время, в виду очень небольшого количества кинофильмов в жанре фантастики и очень ограниченного доступа к хорошей литературе подобного рода, я да и многие другие ребята как раз очень увлекались фантастикой. Тогда я в первый раз прочитал «Аэлиту» и «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого, а больше ничего такого в нашей полковой и в школьной библиотеке не было. И тут вдруг целый фильм, к тому же иностранный! Фильм, насколько я понял по названию (и еще мне сказал папа), о космическом корабле и экипаже, направляющемся к другим мирам, с приключениями и опасностью на каждом шагу. В общем, самая настоящая фантастика, да еще и «не наша» фантастика!
Я был настолько взбудоражен и взволнован, что считал даже не дни, а часы, до того момента когда фильм будут показывать в клубе. Я с увлечением рассказывал своим друзьям и приятелям о предстоящей премьере, о том, что нас всех ждет увлекательное и незабываемое, почти что чудо. Я тогда не думал, что кому-то из ребят это может быть не очень интересно (или не очень понятно), но все мне отвечали, что да, это ужасно интересно, и все обязательно пойдут в кино. Тогда я совершенно не сомневался и был абсолютно уверен в том, что интересное мне просто не может быть неинтересным для всех остальных.
Когда в детстве мы пребываем в постоянном поиске увлечений и интересных для нас занятий, когда еще не сформировалось четкого представления о том, что нам нравится, а чем не стоит заниматься, мы часто увлекаемся то одним, то другим, то третьим. Для нас также очень важно: а что же интересует наших приятелей или что интересным для нас считают взрослые. Что касается лично меня, то я и тогда, и потом не часто находил товарищей по своим увлечениям, и то лишь на некоторое время.
Однажды в гости ко мне пришел один мальчик, мой хороший приятель. Для начала мы позанимались какой-то ерундой, посплетничали о девчонках, потом разговор перешел на книги. Я тогда во второй раз перечитал «Приключения Тома Сойера» и стал ему рассказывать, насколько это интересная и замечательная книга. Он меня слушал, кивал и соглашался, но мне казалось, что особого интереса не проявлял. Я прочитал ему вслух одну главу о том, как Том Сойер познакомился с Бекки Тетчер, а затем и влюбился в нее. Мне казалось, что тема любви для нас, мальчишек в возрасте Тома Сойера, очень актуальна, и она просто не может не заинтересовать такого моего приятеля как Коля Закатов. Особенно, если об этом написано в толстой книжке. Когда я, наконец, закончил читать, Коля сказал:
— Ну, и зачем ты мне все это читал?
Тогда-то я впервые задумался о том, что книга, которая понравилась мне, может быть интересна далеко не всем ребятам, и даже хорошим приятелям. Вот модели автомобилей, всякие военные штучки, вроде пулеметных лент и гильз от крупнокалиберных пулеметов — совсем другое дело. И само собой кино «где много стреляют», или «про шпионов»…
Я с нетерпением ожидал, когда наступит, наконец, суббота в предвкушении просмотра настоящего фантастического фильма, который, возможно, расскажет, а главное покажет мне много нового и необычного, чего я пока не видел и не знал. По субботам, как правило, проводили три сеанса, два из которых, в утреннее и послеобеденное время для солдат, а вечером для семей офицеров. Когда будут показывать «мой» фильм в предстоящую субботу точно никто не знал, но папа сказал, что, скорее всего, вечером. На дневной сеанс (показывали какую-то муру, с ни о чем не говорящим названием), я решил не ходить, чтобы не портить впечатление, которое собирался получить от незнакомого, но уже полюбившегося мне фильма о путешествиях к далеким звездам.
… Когда в субботу вечером я пришел в клуб и узнал, что «Икар ХВ-1» показали днем, то был расстроен настолько, что даже заплакал от досады и обиды. Я еще никогда не испытывал такого горького разочарования. «Муру», как оказалось, перенесли на вечер, потому что посчитали, что она будет интереснее для взрослых, а днем показали моего «Икара». Но еще обиднее было то, что все ребята, которым я рассказывал о предстоящем фильме, его посмотрели, потому что пошли на дневной сеанс. Среди них были и лучшие мои приятели. Конечно, мне следовало идти на оба сеанса со всеми вместе, все равно проболтался, ничем определенно не занимаясь. Я обиделся на ребят, и, наверное, зря, потому что кто же уйдет с фильма, чтобы разыскать меня и сказать что именно сейчас, а не вечером, показывают то, что я так долго и с нетерпением ждал.
В общем, ни тогда, ни позже мне этот фильм посмотреть так и не удалось. Я даже не знаю, показывали его в Советском Союзе или нет.
Почему же сейчас, более чем через сорок лет, я думаю об этом? Потому, наверное, что подобные воспоминания никуда не уходят, они живут с человеком и, между прочим, служат верную службу. Поскольку они есть опыт и всегда напоминают, и предупреждают о том, что жизнь, в общем-то, во многом состоит из подобных разочарований, и к ним нужно быть готовым.
Прошла вечность, состоящая из бесконечной череды многих маленьких вечностей. Пришли и ушли другие времена, люди, события, обстоятельства, удачи и неприятности, и я снова вернулся к фильму «Икар ХВ-1». Он выплыл из закоулков памяти совершенно случайно,
где хранился все эти годы, точнее, название фильма и воспоминания о том, как я его не посмотрел. Значит, я должен был его посмотреть, там, в нашем маленьком клубе, в кругу своих маленьких друзей, в той маленькой вечности.
Сначала я нашел информацию о фильме в Интернете, а потом заказал его в одном из павильонов магазина «Музыкальный парк». А в апреле 2013 года, в одну из свободных суббот, состоялся исторический просмотр (возвращение на «наши» экраны) художественного фильма в жанре фантастики и приключений «Икар ХВ-1», на кухне московской квартиры в «вечерний сеанс». Не берусь судить о том, какие бы чувства я испытал от просмотра фильма в двенадцатилетнем возрасте, однако сейчас, когда я, уже убеленный сединами, но там, глубоко внутри, все еще мальчишка, посмотрел его, он на меня произвел впечатление. Вполне возможно потому, что и сейчас его смотрел все-таки мальчик, которому до седин еще очень далеко. Еще не прочитано огромное количество книг, не просмотрено невероятное число фильмов, все еще впереди. И я еще не знаю, что этот черно-белый фильм снят по мотивам романа Станислава Лема «Магелланово облако», потому что эта книга тоже впереди…
И еще я подумал о том, что тогда, сорок лет назад, «Икар ХВ-1», скорее всего, показался не очень понятным и не очень интересным моим приятелям, поскольку фильм, как я догадывался и тогда, был «взрослым» — взрослые разговоры, взрослые проблемы и не так уж много специальных «космических» эффектов… И, конечно же, «Икар» оказался «не очень советским», словом, «не нашим» фильмом. Отечественным блокбастерам детского фантастического кино «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» еще только предстояло появиться на экранах. Они и были как раз теми фильмами, которые должны смотреть советские школьники — пионеры и совсем юные комсомольцы.
Добавить к этому нечего. Тем более давать какие-либо оценки фильму «Икар ХВ-1» с позиций сегодняшнего дня мне бы не хотелось. Если есть желание, посмотрите его сами, возможно он покажется вам интересным, а может быть и нет. Может быть, в этой связи, «Звездные войны», «Миссия на Марс» или «Аватар» ближе, у каждого свой вкус.
Что до меня, то мое желание все же исполнилось, в субботу вечером, через сорок с лишним лет.
Алексей ЯШИН
(г. Тула)
 Член Союза писателей СССР и России, член Правления Академии российской литературы, главный редактор всероссийского ордена Г.Р. Державина художественно-литератур-ного и публицистического журнала «Приокские зори», лауреат многих литературных премий, обладатель многих иных литературнх наград, дважды профессор Тульского государственного университета, доктор технических и доктор биологических наук.
Член Союза писателей СССР и России, член Правления Академии российской литературы, главный редактор всероссийского ордена Г.Р. Державина художественно-литератур-ного и публицистического журнала «Приокские зори», лауреат многих литературных премий, обладатель многих иных литературнх наград, дважды профессор Тульского государственного университета, доктор технических и доктор биологических наук.
Замучен Гаагской неволей…
В ночь на одиннадцатое марта Слободан почувствовал себя — без всяких видимых причин — лучше. Тупая пульсирующая боль в сердце сгладилась, проявляясь лишь… он не мог точно определить словами этого состояния: и неприятное, и расслабляющее. «Сладкая тянущая боль»,— решил он, ибо обычная пунктуальность и самодовлеющая логика ума не позволяли оставлять любое явление в себе или вовне себя без точного определения. Некстати вспомнил последнюю, правда, шесть лет назад, встречу и беседу с Ладиславом Гундуличем, некогда соседом по школьной парте, а теперь известным врачом и профессором университета в Нише.
Далматинец по крови Ладислав, видно в соответствии с национальным характером, мог серьезные вещи говорить с улыбкой, а анекдоты рассказывать с похоронным выражением лица. Слободан не помнил — в каком контексте Ладислав завел разговор об ощущениях удушаемых людей, но поразился услышанному: человек может повеситься, не имея крюка на потолке, и на батарее отопления, поджав ноги. Казалось бы, что для этого нужно иметь гигантскую силу воли, но Ладислав объяснил, что здесь не помогла бы никакая воля, но все дело в том, что при удушении, как и при замерзании, в организме происходят процессы, активизирующие мозговой центр удовольствия. Поэтому залезшему в петлю вовсе уже и не хочется от нее освободиться… Чудно устроен человек!
Сам неплохо разбиравшийся в медицине, Слободан был удивлен. Но теперь, когда болезнь подступила вплотную, он четко знал: всем в теле человека управляет мозг. Простейший пример — каждый по себе знает: если болит сердце — мозг продолжает исправно работать, а если заломило в голове, то и сердце выскакивает из груди…
Отогнав малоприятные воспоминания, Слободан, мысленно поблагодарив сердце за временный покой, удобно устроился на правом боку, взял в руки томик Якшича*, в бессчетный раз прочел наизусть знаемую строфу:
Тиран казнит нас, позорит женщин,
Посевов наших плоды берет.
Сама суди же, будь справедлива,
Да разве может так жить народ!
— Мы погибаем!..— И погибайте! —
Что ей, Европе! Все нипочем!
Только ли Европе, извечно ненавидящей православных и вообще славян, всему миру сейчас нипочем, нет дела до Сербии, обкусанной со всех сторон, как оставленный на ночь пасхальный пирог, обгрызенный церковными крысами. Якшич в своих печальных и гневных стихах писал о последних годах четырехсотлетнего османского ига, но тогда была и сбылась надежда: Великая Россия, начиная с осады Азова воеводой Шеиным и юным Петром Первым, за два без малого века в бесчисленных войнах сломала хребет Османской империи и освободила Балканы.
Где та сильная Российская империя? Где великий и могучий Советский Союз, властитель полумира? Правда, зря Иосип Тито с тезкой-генералиссимусом сгоряча горшки побил; СССР это не повредило — укус комара для медведя, а для Югославии это заложило мину замедленного действия. Увы, нет той царской, той советской империи, и некому сейчас защитить Сербию.
Джордж Оруэлл в романе «1984» всего лишь полутором десятков лет ошибся в своем прогнозе: наступлении эры господства избранных над всем миром… Сладкая тянущая боль на несколько секунд снова превратилась в режущие спазмы, но, слава Богу, отпустила. Кто сейчас с Россией считается? Даже не позволили ему съездить в Москву, в институт Бакулева подлечиться. И брат все пороги в русской столице оттопал с просьбами. Не пустили. Это не ему, Слободану, не доверяют. Это в Россию с европейско-американской надменностью нарочито плюют.
А как бы пригодились русские зенитные установки С-300 во время американских бомбежек Белграда? Не та страна, не те люди, нет Черняева с его полком добровольцев. А сербы разве те? — Его же, последнего защитника страны, продали Гаагскому трибуналу, то есть тем же американцам, за миллиард долларов. Ха-ха! Наивные все же славяне. Так им Америка и дала этот миллиард. Сам Слободан некогда стажировался в Штатах по финансовому барышничеству, как он сейчас этот эпизод жизни называл, хорошо заокеанские нравы изучил. Миллиард! Да за пятидолларовую купюру удавятся… Так и получилось: вместо продажной стоимости Слободана даже не дали, а пообещали в десять раз меньше, а остальное перезачли за что-то. За что? — Белградцы, еще не потерявшие голову, злорадствуют: вычли за «томагавки» и бомбы, что потратили на Югославию. Так оно, наверное, и есть. Не те сербы, не те. Весь мир не тот.
И снова Слободан в мыслях вернулся к запрету трибунала на лечение в Москве. Ведь не идиоты же они полные вкупе со Злой Карлой, должны понимать: не сбежать он собирается, а ткнуть кичливую Европу в ее же с Америкой дерьмо, как это сделал Георгий Димитров в процессе о поджоге рейхстага. Хотя сейчас это жест Дон Кихота. Тогда даже фашисты устыдились своей провокации и отпустили главу Коминтерна, но кто такие гитлеровцы по сравнению с сегодняшними силами мирового зла? — Взбунтовавшиеся дети-хулиганы, нацепившие повязки со свастикой на коричневые рубашонки и с жестокостью нервических подростков завалившие свою и чужие страны горами трупов. Все видится и оценивается на расстоянии времени.
Главное, все у них просчитано на мегакомпьютерах по направлениям и последовательностям. По европейскому же направлению последовательность устранения самых активных противников началась с Николае Чаушеску, ритуально расстрелянного без суда и следствия. Ибо Николае совершил самое страшное преступление перед силами мирового зла: посадил страну на пустую мамалыгу, но полностью расплатился с долгами Америке и Европе. Всякий, кто это сделает, получает смертный приговор.
Теперь вот до него добрались. Отсюда он не выйдет иначе как на тот свет. И уже оповещено на весь этот свет: следующим «последним диктатором в Европе» будет белорусский вождь Лукашенко. Жаль, что жить отпущено по крохам, а любопытство профессионального политика снедает: какой сценарий готовится под Лукашенко? — Учитывая интересы России. К сожалению, и здесь выход будет найден.
Слободан полуоткинулся на спину, высвобождая затекшую правую руку и судорожно вдохнул воздух; он понял: остановилось сердце. Эти три-четыре секунды показались вечностью, от пяток выше по ногам пополз ледяной холод. Все. Конец. И тут он почувствовал, как громко, ударом молота по наковальне сердце воскресло и, постепенно разгоняясь, вошло в норму, вернее, в привычный для больного человека ритм. Пронесло.
Сердце побаливало уже за десяток лет, да давление скакало по погоде. Но до «скорой» не доходило: таблетку энаприла, а через час по таблетке же аспаркама и рибоксина. Причем энаприл использовал только свой, словенской фармфабрики, правда, за эти десять лет пришлось увеличить дозировку от пяти до двадцати миллиграмм. А что здесь ему дают? — Бог знает. Да еще издевательски медсесетра, чем-то похожая на Злую Карлу, и надзиратель требуют проглатывать снадобье в их присутствии, чтобы не спустил в унитаз. Как будто он стремится ускорить конец своей земной жизни… Может, и правда, эти западники искренне полагают его преступником, для которого самоубийство — единственный выход?
Слободан усмехнулся; вот тебе прямо по Гегелю — Марксу: единство и борьба противоположностей! Действительно, только двум человекам не нужна его скорая смерть: ему самому, чтобы уткнуть западников понятно куда, и Карле — для ее прокурорской реабилитации. Ибо на ней уже висят два «русских» проигранных дела: союзного секретаря России и Белоруссии Павла Бородина и главаря солнцевской бандитской группировки Михайлова-Михася. Если рухнет из-за смерти Слободана и трибунал по бывшей Югославии, издевательски нареченный международным, то это конец карьеры Карлы. Придется ей остаток трудоспособных лет проскучать окружной прокуроршей в глухом швейцарском кантоне…
Югославия. Из предыдущей его мысли четко выкристаллизовывалось только имя его бывшей страны. Ведь, несмотря на трагизм Второй мировой и некоторую двусмысленность положения в соцлагере, это была страна европейского уровня, даже одна из восьми в мире государств строила свои подводные лодки! Даже не в том дело, что Иосип Тито был хорватом и многое делал в ущерб сербам… Нет, не в этом дело, Тито являлся выдающимся коммунистом и руководителем страны, но вот какое-то его навязчивое желание самостоятельности Югославии? Даже по-лучая в Кремле от Брежнева ордена Ленина и Октябрьской революции, неизменно заявлял: «Будучи независимым и самостоятельным фактором вне блоков, политика неприсоединения, которой мы глубоко и прочно привержены…» И так далее. Это Слободан хорошо помнил, хотя слы-шал эти речи по белградскому радио тридцать лет назад.
А что это изменило и в мировой истории, и в судьбе родной страны, если бы два Иосифа не поругались, а Тито ездил каждое лето с отчетом в Сочи или Крым к Самому, потом к Никите и Ильичу Второму? Да ровным счетом ничего, пожалуй. Ход этой самой истории неумолим. Но почему-то все пробные свои ходы она начально опробывает на славянах, особенно не везет здесь русским и сербам, двум православным народам. Боже, что и твои, и наши враги-антихристы сотворили с сербами?! — Четыреста лет османского ига, настоящего, не русско-татарско-монгольского союза, хотя тоже на крови немалой. Происки Европы… И как результат — растащили Великую Сербию по трем религиям. Но опять же не католикам-хорватам, не мусульманам-бос-нийцам, а православным сербам западный мир ставит в вину все свои же прегрешения. Сколько же лет, десятков лет пройдет, прежде чем история начнет новый свой виток, снова Великая Россия и Сербия станут социальными, бесклассовыми государствами? Не было дано Слободану ответить самому себе на этот вопрос. Сердце остановилось.
***
Душа Слободана отлетела от тела и сорок дней металась над ос-колками страны, дважды воссозданной после мировых войн ХХ века. Да, потянулись к брезгливой Европе Словения и Хорватия; мечутся Босния и Македония; темные силы отталкивают от Сербии последнего союзника — Черногорию. Бестелесные слезы проливал он над расчлененной Сербией, уже без Сербской Краины и прародины Косова поля с тысячью взорванных албанцами монастырей и церквей.
На сороковой день душа великого воина Югославии, последнего рыцаря Европы прибыла к воротам Царства Небесного. Апостол Петр уважительно приветствовал новоприбывшего и отворил ворота. Проводить Слободана вышел сам Архистратиг Михаил. Из православных душ доселе только четверо удостаивались такой чести: князья Александр Невский, Дмитрий Донской и два русских генералиссимуса.
Скоро миновав рай католический с гигантским подземным чистилищем, они подошли к необъятному православному раю, стены которого вправо и влево терялись за горизонтом. Архистратиг Михаил отворил двери рая и напутствовал входящего:
— Шествуй в вечность, Святой Великомученик Слободан!
Людмила АЛТУНИНА
(г. Тула)
 Журналист, прозаик, поэт, родилась и выросла в Горном Алтае. Окончила факультет журналистики КазГУ. Почти 40 лет — в журналистике (более двух тысяч статей). Автор и соавтор более десятка книг прозы и поэзии, публикуется в альманахах и журналах. Дважды победитель Всероссийского Кинофестиваля короткометражных фильмов «Семья России» («Проза» — 2007, 2013 гг.). Участник уникального Международного Молитвенного Похода (2013 г.) в год 400-летия Дома Романовых по маршруту Царской Семьи 1913 года, Награждена многими почетными грамотами, в т.ч. Минобрнауки и дважды — Минкультуры РФ, нагрудным знаком «За заслуги перед университетом» (много лет была редактором газеты ТулГУ). Имя внесено в энциклопедию ТулГУ. Ветеран труда. Член Союза журналистов России и Академии российской литературы. Зав. отделом альманаха «Ковчег».
Журналист, прозаик, поэт, родилась и выросла в Горном Алтае. Окончила факультет журналистики КазГУ. Почти 40 лет — в журналистике (более двух тысяч статей). Автор и соавтор более десятка книг прозы и поэзии, публикуется в альманахах и журналах. Дважды победитель Всероссийского Кинофестиваля короткометражных фильмов «Семья России» («Проза» — 2007, 2013 гг.). Участник уникального Международного Молитвенного Похода (2013 г.) в год 400-летия Дома Романовых по маршруту Царской Семьи 1913 года, Награждена многими почетными грамотами, в т.ч. Минобрнауки и дважды — Минкультуры РФ, нагрудным знаком «За заслуги перед университетом» (много лет была редактором газеты ТулГУ). Имя внесено в энциклопедию ТулГУ. Ветеран труда. Член Союза журналистов России и Академии российской литературы. Зав. отделом альманаха «Ковчег».
«ТАМ, ГДЕ РЕКИ ДЕТСТВА…» *
(Этюды о малой родине — Горном Алтае)
ВАСИЛЬКИ ОТ ВАСИ
Я — снова в Горном Алтае, в дорогой моему сердцу Майме, где выросла и закончила школу. Как и всякий раз, приезжая сюда, захожу в гости к своей учительнице, Марии Ивановне Шумской**, с которой мы дружны много-много лет, еще со школьной поры. Она была первой, сростинской, женой Василия Макаровича Шукшина, известного русского кинорежиссера, актера, писателя и драматурга. В родных для них обоих Сростках они и познакомились в юности; дружили, гуляли по Чуйскому тракту, у горы Пикет и по деревенским улочкам, купались в протоках Катуни, бегали на танцы и посиделки, играли в карты у кого-нибудь на дому, пели песни. Здесь и возникло между ними это большое чувство — ярко вспыхнула любовь, преобразившая их жизнь. Здесь и поженились. Наверное, правду говорят в народе, что первая любовь, приводящая к браку, редко бывает в нем долгой, на всю жизнь счастливой, зато яркой, эмоциональной, оставляющей след в сердце на всю последующую жизнь, как бы по-разному для двоих она ни сложилась. Так и случилось с Марией Ивановной и Василием Макаровичем.
…Сидим с ней, пьем чай. Говорим о том, о сем, смотрим старый фотоальбом с фотографиями хозяйки. Я стараюсь вывести Марию Ивановну на воспоминания о Шукшине. «Каким, по отношению к вам, он,— спрашиваю,— запомнился больше всего, ярче запечатлелся в вашей памяти?»
— Он был очень внимателен ко мне, предупредителен даже,— тут же отозвалась Мария Ивановна, просияв лицом. Помню такой случай…
Шли мы как-то летом с ним горой Пикетом. Тогда мы все больше ходили по горе, потому что по грунтовой дороге ходить было очень пыльно и жарко. Пыль коромыслом поднималась, особенно, если пройдет машина, все глаза и рот забьет. По Чуйскому тракту тоже было идти жарко, да и машины там ходили туда-сюда — небезопасно. А горой идти любо-дорого: ветерок прохладный, зелень под ногами, птички поют, пчелки, шмели, бабочки летают. Кругом — цветы. Сама ведь знаешь, сколько на Горном Алтае разных цветов на горе и в лугах. А я вообще очень люблю луговые и полевые цветы, особенно колокольчики, васильки. Ну вот, идем мы с Васей горой до Сросток, жарко, солнце печет, а кругом цветов разных — море! Особенно васильки меня привлекают,— наклоняюсь, нюхаю их, не заметила даже, что Вася за мной наблюдает. Сорвала один василек, а он видит, что я сорвала василек, быстренько так набрал их целый букет и мне преподнес: «Это тебе, говорит,— милая моя Машенька, раньше-то я тебе букетов не дарил», А он и вправду не дарил мне до этого цветов, как-то тогда это среди сельских парней не принято было. Я удивилась и обрадовалась, прижала Васин букет к груди: «Спасибо!»,— говорю, — а у самой сердце сильно так бьется, выскочить хочет от радости, восторга, благодарности и любви к нему.
Пришли мы в Сростки, подходим к Васиному дому; дом, вижу, на замке. Вася пошел открывать дом. Когда вошли в ограду их дома, я приостановилась поговорить с Ольгой Неверовой. Она по соседству с Шукшиными жила, дружили они семьями. Добрая, простая такая женщина, я ее любила. Она меня — тоже. Ну, поговорили мы с ней, вхожу я к Васе в дом, и до меня доносится романс «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня темно-голубые?...» в исполнении Бориса Утесова. У Шукшиных был патефон с пластинками, что в то время, в пятидесятых годах, редкостью было. Далеко не в каждой семье патефон имелся. Оказывается, Вася специально для меня его завел и поставил пластинку с романсом «Колокольчики мои». Я обрадовалась так и удивилась. Весь день он тогда меня радовал и удивлял заботой своей и внимательностью, неожиданными сюрпризами. Едва я переступила порог дома, Вася подхватил меня и давай кружить по избе и подпевать Утесову. В то время он еще танцевать хорошо не умел, а пел хорошо. Они с его мамой Марией Сергеевной на два голоса замечательно пели старинные песни. Он все их знал и любил. «Отец мой был природный пахарь», «Ах, ты, степь, широкая…» особо любимыми его песнями были. Они часто эти песни пели вдвоем с мамой, сидя на лавочке перед домом. Позднее он и танцевать хорошо научился, даже чечетку здорово бить. На все руки был мастер, за что ни возьмется — всего добьется, все у него хорошо получается. Так и в творчестве: и в кино, и в режиссуре, и в актерстве, и в писательском труде. Он ничего не делал наполовину, спустя рукава. И жил, и любил также — без оглядки, на полную катушку. И сгорел! Жаль, как жаль, что сгорел так рано, дочек маленькими оставил. Многое смог бы еще сделать и в жизни, и творчестве.
— Вы любили его?
— Почему — любила?! Я и сейчас его люблю, всю жизнь люблю. И он меня любил, но так получилось, что разошлись, но он живет во мне. И пока жива я, будет жить в моем сердце…
ОЛЕНЕНОК
…Так уж у нас в семье заведено было: всегда полно детворы в нашем доме: мои подруги и друзья старшего брата Володи. Мама их всех привечала: кормила своей искусной выпечкой, поила парным молоком, сепарированными сливками, прохладными пахтой и чегенем (кисломолочный продукт, сделанный на специальной закваске из алтайского сырчика. Традиционный напиток алтайцев), брала вместе с нами и на реку купаться, и на гору за цветами и ягодами.
… Однажды сидим на берегу, накупавшись, играем вместе с мамой в камешки: чей быстрее высохнет на солнышке. Неожиданно за спиной раздается голос отца, вернувшегося из длительной командировки:
— А, вот где я вас разыскал!.. Так и знал, что вы — на реке…
Мы, обрадованные, вскакиваем. Отец — землеустроитель, топограф, работал в Алтайской геологоразведочной экспедиции, часто и надолго уезжал вместе с геологоразведочной партией; весной, летом и осенью дома бывал мало. Заядлый охотник и рыбак, он любил тайгу, горы, озера и реки и дома никогда не сидел. Он прекрасно знал обычаи, поверья и даже суеверия, связанные с горами и тайгой, повадки диких зверей; охотился и на медведей, но ко всему относился с великой любовью и заботой, никогда не нарушал охотничьих обычаев. Алтайцы их свято соблюдают, иначе, верят, удача отвернется. Закон гор и тайги нельзя переступать, нельзя его нарушать.
А выйдя на пенсию, отец большую часть своего времени проводил в тайге и в горах, на белках*, в альпийских лугах. Став постарше, я называла папу: «Дерсу Узала» — именем «лесного человека» — таежного охотника Уссурийского края, всю жизнь прожившего в тайге, под открытым небом, проводника в экспедициях и героя документальных романов исследователя Приамурья и Приморского края В.К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», которые я прочитала в то время. У Дерсу с моим отцом много общего в отношении к миру, людям, природе, животным, традициям и обычаям. Отец в Горном Алтае так же, как Дерсу в Уссурийском крае, хорошо знал тайгу, все горные речки и родники, горы, вершины, ущелья и перевалы. Да и внешне они похожи (отец — алтаец по национальности); к тому же в молодости служил в армии на Дальнем Востоке, а потом некоторое время жил там и всегда говорил о том крае с теплотой, желал там вновь побывать. И свое заветное желание исполнил-таки: в семидесятилетнем возрасте побывал там, в гостях у сына Володи — военного летчика, служившего на Дальнем Востоке и жившего с семьей в Уссурийске.
На обратном пути папа «завернул» за тысячи километров ко мне, в Тулу, пожил немного в городской квартире, понянчился с внуками и сказал точь-в-точь, как Дерсу Узала: «Не могу больше: в квартире, как в ящике, на волю мне надо, в тайгу, в горы…»
…Отец интригующе говорит нам: «Угадайте-ка, что я вам привез?»
— Орехи!... Цветы!... Эдельвейс! — папа уже привозил однажды этот редкий, таинственный цветок и говорил нам о том, что встретить его — большая удача, потому что растет он высоко в горах и добраться до него совсем не просто, да и попадается он не часто. Дарят его на счастье. Эдельвейс привлекает удачу.
— Белку! — соображаю я, потому что живая белка тоже была привезена однажды папой и жила у нас. Нет, не угадала, доча,— олененка! — сказал он.
Да, это был настоящий, живой, дикий, маленький олененок, худенький, светло-коричневый, в белых пятнышках, с коротеньким хвостиком. У него была, по-видимому, сломана нога. Отец в тайге успел ее подлечить, но она была туго перевязана бинтом, а под бинтом — дощечки, о которых папа сказал: «Я ему шину наложил на ногу». Папа вообще был большой мастер лечить животных. Помню, как обморозившему лапки петуху он сделал из кожи и проволоки протезы, и петух жил, даже землю разгребал этими лапками. Соседки смотреть приходили на такое диво. Сделал он протез из деревяшки, обтянув ее кожей, и нашему коту, попавшему зимой передней лапой в капкан для крыс. Лапа у кота распухла, долго болела, а потом усохла, стала намного короче другой, поэтому он прыгал на трех лапах, а с протезом ходил на всех четырех лапках. В лютые сибирские холода, когда термометр показывал минус пятьдесят градусов, отец сшил из старой маминой пуховой шали для нашей коровы Римки «бюстгальтер» на вымя, чтобы она не обморозила соски. А для маленьких щенят от нашей собаки Куклы — помеси лайки и дворняжки, но очень умной, проводившей все лето с папой в тайге, он шил на лапки теплые «унтики» из кожи и меха.
Итак, об олененке. Мы назвали его Малыш. Место ему отгородили в сарае, рядом с коровой. Отпаивали коровьим молоком, он перестал хромать, совсем привык к нам. Мягкими, нежными губами брал из наших ладошек кусочки хлеба и сахара. Мы с братом гладили его по теплым бокам и даже прижимались к нему лицом — очень полюбили нашего Малыша с большими черными грустными влажными глазами. Мама повязала ему на шею красную ленточку, чтобы кто-нибудь ненароком за дикого не принял и не пристрелил. Он прожил у нас все лето, вырос. Когда с огородов убрали картофель и овощи, мама выпустила его туда лакомиться оставшимися листьями подсолнухов, капусты и кукурузы. Глядя на олененка, мой брат Володя сказал однажды:
— Смотрите, у Малыша хвостик побелел, значит, скоро — зима.
Но до зимы наш Малыш не дожил. Как-то у соседей Распоповых вырвалась из вольера огромная охотничья собака и задавила нашего любимца прямо у ворот, ведущих из огорода во двор. Долго мы оплакивали и не могли забыть нашего Малыша, да и до сих пор у меня особое, щемящее какое-то чувство к диким животным, особенно к оленям.
Сергей КРЕСТЬЯНКИН
(г. Тула)
 Член Союза писателей России и Академии российской литературы, лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова, награжден медалью им. конструктора А.Н. Ганичева. Автор около двух тысяч публикаций в газетах, журналах, альманахах и сборниках. Публикуется в тульских и московских изданиях. Выпустил 15 авторских книг.
Член Союза писателей России и Академии российской литературы, лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова, награжден медалью им. конструктора А.Н. Ганичева. Автор около двух тысяч публикаций в газетах, журналах, альманахах и сборниках. Публикуется в тульских и московских изданиях. Выпустил 15 авторских книг.
ДРУГИЕ ВРЕМЕНА — ДРУГИЕ НРАВЫ
Рассказ
Вокзал — небольшое одноэтажное каменное здание, выкрашенное в зеленый цвет. Маленькая железнодорожная станция «Когарлын», построенная специально на развилке дорог. Не помню, как переводится название, но оно связано с цветами. Трудно сказать какие именно это цветы, так как ничего не видно вокруг — поздняя осень, и листва давно покинула деревья, а цветы еще раньше свое отцвели. Яркие краски исчезли — все в серых тонах.
Пасмурно.
Хоть ветер и не назойливый, еле уловимый, но холодный, пронизывающий до костей.
Зябко.
Желающих оказаться на улице, в такое время, очень мало — только по-необходимости.
Из вокзала вышел молодой человек — видно покурить. Но только сделал первую затяжку, как сразу передернул плечами, подняв их кверху, а заодно и воротник плаща, и застегнулся на верхнюю пуговицу. После чего курил безо всякого удовольствия — быстро, как-то урывками и сморщившись. И, наверное, даже не докурив, бросил сигарету в урну и стремительно скрылся за дверью.
Внутри вокзала было тепло. Во-первых, начался отопительный сезон и батареи перестали быть безжизненно ледяными. Во-вторых, помещение оказалось небольшим, а народу, ожидающего своих поездов, набилось достаточно прилично — надышали.
С высоты птичьего полета эта станция напоминала какого-то космического пришельца или спрута со щупальцами-рельсами, тянущимися в разные стороны. Составы двигались с востока на север и с запада на юг, с юга на восток и с севера на запад. Диктор еле-еле успевала объявлять о прибытии новых поездов и об отправлении предыдущих. Не зря же станция «Когарлын» считалась узловой, которую народ называл «Развилка», где ветки дорог паутиной переплетались в сложные узлы и, казалось, запутывались окончательно. Но диспетчеры работу свою знали и выполняли четко, разбираясь во всех этих хитросплетениях. Поезда не застревали и отправлялись строго по расписанию.
Все немногочисленные лавки были заняты пассажирами — одни дремали в ожидании, когда можно будет уехать, другие жевали бутерброды, пирожки, запивая лимонадом или молоком из бумажных пирамидообразных пакетов. С краю на одной из лавок сидел пожилой таджик. Еще трое таджиков — молодых мужчин изучали расписание поездов, висящее на стене. Три совсем молоденькие таджички разговаривали, стоя в дальнем углу. Их окружали 6—7 детей разного возраста. Двухлетние малыши ползали по полу возле своих мам. А дети постарше — четырех—пяти лет играли в догонялки, пыхтели, бегали между сидящими пассажирами и заливисто громко смеялись.
— Зульфия! Сатар! — несколько раз покрикивали на них молодые мамаши и говорили, что-то по-таджикски.
Дети затихали. Но ненадолго. Это же — дети, и они еще не устали, да и игра не закончилась. Через несколько минут гвалт возобновлялся.
Загромыхала упавшая металлическая урна, стоявшая до того у стены и оказавшаяся на пути пробегавших детей. Мусор рассыпался и разлетелся на несколько метров в разные стороны.
Старик, сидящий на лавке, зашевелился, повернул голову на шум и, ударив палкой об пол, строго сказал:
— Дети, прекратите бегать, вы мешаете людям. Джафар, уйми детей.
От группы таджиков, стоящих возле расписания, отделился молодой человек, схватил пробегавшего ребенка за руку, слегка стукнул ладонью по спине и отвел его к матери в дальний угол.
На грохот вышла дежурная по вокзалу — посмотреть, что происходит. Увидев перевернутую урну, бегающих детей и пожилого мужчину в чалме и национальном полосатом халате, что-то говорившего своим соплеменникам — посчитала его главой семейства и поэтому обратилась к нему:
— Что вы здесь устроили! Безобразие! Пассажиры отдыхают, мы работаем, а вы громыхаете, бегаете, кричите. Скажите своим, чтобы немедленно прекратили. И мусор за собой соберите, а иначе милицию сейчас вызову, и они вас выгонят из вокзала. Приводите все в порядок. Приду, проверю.
И она, развернувшись, пошла к себе.
— Не волнуйся, уважаемая, сейчас все сделаем,— крикнул ей вслед мужчина, поднимая руку.
Он повернулся к молодым людям, наверное, действительно, к своим сыновьям или, скорее всего, к внукам и позвал:
— Саид, подойди.
Подошел красивый молодой мужчина, тоже в халате и тюбетейке на голове.
— Саид, поезд еще не скоро — ночью. Детей угомоните и укладывайте спать. И надо мусор весь собрать обратно в урну, а то дежурная ругается.
Молодой человек почтительно слушал старца, но на словах о мусоре посмотрел на пол, скривился, пожал плечами и махнул рукой:
— Да, ладно.
После чего пошел к женщинам передавать слова отца.
— Джамбек! Фатима! — старик несколько раз пытался позвать своих родственников, но молчание ему было ответом — все семейство таджиков усиленно делало вид, что готовятся ко сну и никто не слышит призывы старшего, а может быть и действительно не слышали.
Пожилой Ахмед перестал звать детей, опустил голову и вспомнил себя ребенком. Когда без спроса взял лепешку раньше отца и старшего брата, за что получил по рукам, был выгнан из хижины во двор и до самого вечера его больше ничем не кормили. И лишь перед самым сном ему дали кусок лаваша и пиалу чая. Он ел и боялся уронить хоть крошку, а потом вылизал с ладони то, что просы́палось.
 Но это он был маленький — несмышленыш. А когда стал чуть постарше, отец доверил ему почистить казан, в котором мама собиралась приготовить плов для всей семьи. Отец сказал сходить на речку, отдраить его от гари и копоти, ведь готовить пищу приходилось на открытом огне, и начистить до блеска. Он пошел, как ему было велено, и минут сорок честно пытался привести казан в надлежащий вид — пучками травы, нарванной здесь же с добавлением песка, специальным гладким камнем и шершавой мочалкой. Но этот большой горшок никак не хотел становиться чище — результаты усилий проступали чрезвычайно медленно и видны были слабо. Проковырявшись еще некоторое время, он так и не смог довести его до блеска.
Но это он был маленький — несмышленыш. А когда стал чуть постарше, отец доверил ему почистить казан, в котором мама собиралась приготовить плов для всей семьи. Отец сказал сходить на речку, отдраить его от гари и копоти, ведь готовить пищу приходилось на открытом огне, и начистить до блеска. Он пошел, как ему было велено, и минут сорок честно пытался привести казан в надлежащий вид — пучками травы, нарванной здесь же с добавлением песка, специальным гладким камнем и шершавой мочалкой. Но этот большой горшок никак не хотел становиться чище — результаты усилий проступали чрезвычайно медленно и видны были слабо. Проковырявшись еще некоторое время, он так и не смог довести его до блеска.
Откинулся на траву обессиленный, разбросав руки в разные стороны. Все тело ломило от физического труда.
Утреннее солнце пригревало и расслабляло. Ахмед не заметил, как задремал. Сколько он спал, не знает, но проснулся от шума и смеха ребятни, пришедшей на речку. Здесь были и таджики, и узбеки, и русские — и местные жители, и приехавшие погостить к родственникам на каникулы ребята из других республик — о чем свидетель ствовала более светлая, не успевшая еще загореть, кожа.
— Ахмед, пошли с нами купаться и блюдца пускать, — позвали его пришедшие, заметив, что он приподнялся над травой.
Спина и руки болели от напряжения, пальцы не слушались.
Он вспомнил, чем занимался. Спросонья посмотрел на казан, валяющийся рядом. Решил, что закончит с ним позже, и побежал играть с ребятами.
Игра, как известно, затягивает, и счет времени теряешь напрочь.
Ахмед опомнился лишь тогда, когда услышал, что его несколько раз позвали по имени. На берегу стоял старший брат Фархад, в руках державший злополучный казан.
Всю обратную дорогу шли в полном молчании. Когда они возвратились, остальные братья и сестры встретили тоже молча.
Надолго он запомнил сжатые губы и укоризненный взгляд своей сестры Алтынай — «Серебряный месяц», которая всегда приходила на помощь и защищала его, как тигрица, когда он был совсем маленьким. А плач самой младшей сестренки Гюльнары до сих пор стоит в ушах. Она не понимала, что происходит. Она просто хотела есть.
Отец тогда сказал очень тихо и грустно:
— Ты не выполнил, что тебе поручил старший. Ты — не уважаешь старших. Ты не уважаешь своих братьев и сестер — оставил их голодными, в угоду своим играм. Значит, сам себя не уважаешь. И если не переменишь свое отношение к людям и к порученным тебе делам — окружающие перестанут уважать тебя.
И все. Больше никто ничего не сказал и не ругал его. Ахмед стоял перед отцом, слушал. Губы его тряслись, по щекам в два ручья текли слезы. Ему было обидно, что он старался, у него болела спина, плечи, пальцы оказались содраны в кровь, а этот казан никак не хотел очищаться. Его никто не жалеет, даже Алтынай. Но ведь и не ругают, хотя он понимает, что ослушался и оставил всех без еды. Хоть бы накричали или лучше побили — легче было бы. А так только горше в сто раз от своей никчемности.
Уже позже, с годами, пришло осознание, что старшие не нагружают молодых работой, которую они не могут выполнить, а учат усидчивости, терпению и почтительному отношению к старикам, которые не брюзжат, а передают свои знания, умения и культуру своего народа детям и внукам с самого рождения.
Через пару часов мама все-таки приготовила плов, о чем сообщал характерный запах, разнесшийся по всему двору. Сели есть. Его не позвали, хотя никто и не запрещал. Но после произошедшего Ахмед сам не смог сесть в круг к братьям и сестрам. Он видел, что мать искоса поглядывала в его сторону, но не звала.
Когда все поели, к нему, сидящему в глубине двора у забора, сложенного из валунов, подошел отец. Протянул большой кусок черного хлеба и сказал:
— Посмотри, может там, что и осталось.
И ушел.
Остальные тоже куда-то разбрелись.
Очень хотелось есть. В животе урчало так, что все соседские собаки, услышав этот рык, наверное, разбежались бы, подумав, что появился какой-то неизвестный зверь.
Медленно, на негнущихся ногах Ахмед подошел к тому месту, где ело его семейство, и заглянул в казан. От плова мало что осталось: лишь название и запах, который еще не успел выветриться. Правда, на стенках котла виднелись крупинки риса и даже волокна мяса можно было заметить. На дне мальчик увидел свое отражение от накопившегося бараньего жира и сока от морковки, кураги и лука. Он макал в жирную лужицу кусок хлеба, который дал ему отец, соскребал со стенок остатки пищи и отправлял в рот, почти не прожевывая, а заглатывая. Такого вкусного хлеба ему есть еще не доводилось.
После того как хлеб был съеден, а на это ушло всего-то несколько минут, паренек взвалил себе на плечо грязный казан, потащил его на речку и не вернулся оттуда до тех пор, пока тот не засверкал первозданным блеском.
На всю жизнь он запомнил эти события и слова отца, сказанные тихим голосом.
Потом началась Вторая мировая война. В 1943 году его призвали в армию и отправили на фронт. Воевал достойно, о чем свидетельствуют боевые награды — девять медалей и орден Красной Звезды. Это, когда командира роты убило, он принял командование на себя и с минимальными потерями вывел бойцов из окружения, предварительно в течение суток удерживая занятую высотку, давая возможность основным войскам укрепиться на своих позициях. Закончил войну в двадцать лет в звании сержанта. Дважды был ранен, но возвращался в строй. Сам маршал Рокоссовский лично приезжал для вручения награды. Хотел посмотреть и пожать руку молодому командиру, который не растерялся в трудной ситуации, удерживал высоту не в течение хотя бы шести часов, как просило командование, а почти сутки — до последнего снаряда. И когда два оставшихся орудия оказались разбиты, а противник все напирал, усиливая свою мощь, сержант Ахмед Садыков под утро смог увести людей от неминуемой гибели. Используя свое природное чутье, он вывел почти всех бойцов оставшихся практически без боеприпасов из сжимающегося кольца врагов. Снискал заслуженное уважение своих однополчан, а после войны — и односельчан, когда восстанавливал страну после разрухи и старался всегда быть в первых рядах.
Много что с тех пор изменилось: дети давно выросли, страна стала другая, молодежь уезжает в города и другие государства, рушатся устои и взаимосвязь поколений. Не те нынче нравы, нет должного почитания и послушания. Внуки и правнуки хотят жить и уже живут по-другому.
Пожилой мужчина тряхнул головой, отрываясь от воспоминаний, с усилием поднялся, опираясь на костыль и, очень медленно, направился в сторону рассыпавшегося мусора. Крепко держась за палку, он с большим трудом присел на корточки — болели старые раны,— затем опустился на колени и ползал по полу, собирая бумажки, окурки, огрызки и шелуху от семечек.
— Мама, а что там дедушка делает? — указывая на бородатого мужчину в национальном халате, спросила маленькая девочка, сидящая рядом с женщиной на лавочке. Та посмотрела на таджика в преклонном возрасте, копошащегося в мусоре, и ответила:
— Он, наверное, что-то уронил, а теперь ищет.
Снова вышла женщина в синей форме — дежурная по вокзалу, увидев через стеклянную перегородку старика, ползающего на коленях.
— Ну, что же вы делаете? Зачем же так?
— Дочка, ты не ругайся и не волнуйся, пожалуйста. Я подобрал весь мусор. Уважаемая, не надо милицию. Не прогоняй нас на улицу. Там очень холодно — сильный ветер. Правнуки замерзнут. Они ведь еще несмышленыши — не знают, что творят. Шалят. Дети совсем.
— Да, что вы такое говорите! Зачем же вы, пожилой человек, ползали? Завтра утром уборщица придет и все убрала бы. Или, в крайнем случае, попросили бы своих родственников. Зачем сами-то в таком возрасте?
Женщина помогла старику подняться с колен и повела того к лавочке.
— Да я, просил… Никто не захотел. Не то нынче поколение. Дети еще слушались старших, а внуки — совершенно другие,— с сожалением констатировал мужчина.
— У меня у самой внуки такие же,— поддержала разговор дежурная.— Любят пошалить, нашкодничать.
— У нас поезд в два часа ночи,— стал объяснять таджик.— Нам бы здесь переждать, и мы уедем.
— Да не волнуйтесь так. Сидите сколько нужно. И милицию я не собиралась вызывать. Это я так, для острастки сказала,— призналась женщина,— чтобы не шумели слишком сильно — не мешали работать. Отдыхайте.
И она ушла к себе.
Пожилой таджик, Ахмед Садыков, посмотрел на своих родственников, расположившихся в углу вокзала, уперся обеими руками в костыль и, положив на них подбородок, с горечью подумал: «Рушатся устои. Нет уважения и послушания. Куда катится общество? Да, другие времена — другие нравы…»
Ирина НАЗАРОВА
(г. Серпухов Московской области)
 16 лет. Родилась в г. Серпухов Московской обл. Стихи и песни пишет с 7 лет, прозу — с 12-ти. В 2014 г. с красным дипломом окончила Детскую музыкальную школу №1 г. Серпухова по классу фортепьяно. В 2015 году вступила в ЛИТО «КЛИО» и в 2016 г. — в Моссовет литобъединений при СПР. Имеет публикации в сборнике этого ЛитО «Созвучие» за 2016 г.
16 лет. Родилась в г. Серпухов Московской обл. Стихи и песни пишет с 7 лет, прозу — с 12-ти. В 2014 г. с красным дипломом окончила Детскую музыкальную школу №1 г. Серпухова по классу фортепьяно. В 2015 году вступила в ЛИТО «КЛИО» и в 2016 г. — в Моссовет литобъединений при СПР. Имеет публикации в сборнике этого ЛитО «Созвучие» за 2016 г.
КРЫЛЬЯ
Тишину кабинета нарушил крик, полный отчаяния.
—Доктор, доктор! Помогите! Это очень срочно!..
Врач незамедлительно поднял свои серые, скупые на радость и печаль (то есть на любые эмоции) глаза. Перед ним стояла женщина лет сорока — сорока пяти. Рядом с ней, тщетно пытаясь спрятаться за спину матери, находилась испуганная девчушка. Доктор кашлянул.
— Почему без очереди? — строго спросил он.
Мать, будто пытаясь найти поддержку в кабинете, но встречая повсюду лишь холод, сначала взглянула на медсестру, лениво выводящую что-то на бумаге, потом — в глаза мужчины.
— Понимаете, доктор… Это очень срочно. У моего ребенка — крылья!
Лицо врача снова приняло отсутствующее выражение, и он махнул рукой: это, мол, неединичный случай.
— Не волнуйтесь, такое иногда бывает. Не могли бы вы продемонстрировать?
Женщина что-то шепнула на ухо своей дочери. Та отрицательно покачала головой, но хмурый вид родительницы взял над ней верх. Девочка вышла вперед и робко, нехотя проговорила:
— Эти строки тихо-тихо
Городская облепиха
Мне шептала у дверей;
Не бывает ярче слова:
Нет полезнее такого,
Кислой ягоды рыжей…
За спиной ребенка развернулись большие кремовые крылья с крупным оперением. Девочка закрыла лицо руками.
— Хм, а цвет неплохой. Ну, ничего, мамаша, не пугайтесь — все уладим. Сейчас выпишем направление к хирургу.
Услышав слова врача, медсестричка что-то быстро застрочила на бумаге. Дочка снова испуганно прижалась к маме, и та успокаивающе погладила ее по голове.
— Ничего не бойся!..
Когда дверь за очередными посетителями захлопнулась, доктор подал голос. Медсестра удивленно подняла глаза: с ним это случалось довольно редко.
— Нет, ну что это такое? И компьютеры есть, и планшеты, и телефоны, и еще много всякой ерунды! Нет, опять эта крылатая эпидемия! Мало им, что ли, развлечений? Откуда, ну откуда им расти? Неужто из соцсетей?
Доктор с минуту помолчал, а потом с грустью в голосе добавил:
— Эх, жалко девчушку. Хорошие были крылья. Но, Леночка, сама подумай: Пушкина уже никто не переплюнет.
МЕЧТА
За столом царило некоторое безмолвие, которое изредка нарушалось тихим переплетением женских голосов. Понятно было, что все кого-то нетерпеливо ждут, и это нетерпение изводит их совершенно.
Дверь просторной комнаты отворилась бесшумно, и на пороге показалась высокая стройная дева в длинном платье иссиня-черного цвета. Девушки за столом встали и в почтении склонили головы; вошедшая поприветствовала их коротким поклоном и заняла свободное место во главе стола. Только одна из присутствующих посмела смерить ее презрительным взглядом. Кажется, никто не обратил на это внимания: та, чье появление вызвало такую тишину, спокойно начала говорить.
— Сегодня мы собрались здесь, чтобы решить дальнейшую судьбу Войны.
Ее голос, низкий и раскатистый, перекрыл другой, жесткий, некрасивый.
— Дорогая Фемида, сомневаюсь, что у вас что-либо выйдет.
Было видно, что для Войны стоит огромных усилий держаться спокойно. Определенно, Правосудие не вызывала у нее ни капли уважения. Девушка разразилась злобным смехом.
— Да как ВЫ можете судить меня?? Неужели кто-то из вас меня создал? Или, может быть, воскресил? Знаете, я по нраву многим…
— Диктаторам…— тихо и как-то жалобно прошептала светловолосая девушка, сидящая рядом с говорящей.
Война смерила ее самым злым взглядом, на который только была способна.
— Кто это тут выступает?? — с издевкой в голосе продолжила она.— Кажется, Материнство? Вот уж кому никто голоса не давал…
С этими словами она, было, замахнулась на беспомощную девушку, но тут… ее рука оказалась в крепком захвате.
— Не смейте так обращаться с заседателями!..— прорычала дама весьма агрессивного вида, очень кстати подоспевшая с другой стороны стола.
— Ах, Казнь!.. Кажется, еще кто-то настроился против меня??
Послышались звуки борьбы. Правосудие с совершенным спокойствием наблюдала за дракой, будто бы заранее знала, чем закончится это сражение. Когда, наконец, Казни удалось привязать руки дико сопротивляющейся Войны к подлокотникам кресла, она снова заговорила.
— Итак, предлагаю решить ее дальнейшую судьбу открытым голосованием. Но сначала пусть каждый приведет свой вариант наказания.
Воцарилось молчание; почему-то все посмотрели на Материнство. Девушка, содрогаясь, приподнялась.
— Я не могу выразить словами, сколько Война унесла жизней моих сыновей и дочерей… Я…
Глаза ее наполнились слезами, а чистый голос дрогнул. Содрогаясь всем телом, она опустилась на свое место и закрыла лицо руками. Правосудие понимающе кивнула.
— Хорошо. Милосердие, твой черед.
— Я думаю, что даже если она так виновна, то не стоит делать наказание слишком суровым. Все-таки частично в этом виноваты и те, кто разжигал взаимную неприязнь и злобу… Не только она.
Правосудие внимательно посмотрела на девушку, которая выдохнула свою речь на одном дыхании, и потом ее взор обратился к Казни.
— Что ж, послушаем, что скажет нам Высшая Мера Наказания.
Казнь, которая из опасений дальнейшего бунтарства встала рядом с Войной, задумалась.
— Она, несомненно, виновна. Из-за нее погибли миллиарды людей; это нельзя оставить просто так. Если Война продолжит заполнять сердца людей своей чернотой, беды не миновать. Думаю, что для нее нет уже никакого другого наказания, кроме смерти.
Правосудие кивнула.
— Больше нет никаких предложений?
Ответа не последовало.
— Тогда предлагаю приступить к голосованию. Кто за смерть?
В воздух взметнулись две руки: сильная и уверенная Казни и дрожащая — Материнства. Послышался тихий-претихий шепот:
—Я не позволю ей убивать моих детей дальше…
Правосудие не придала значения этим словам и продолжила.
— Кто против?..
Над столом поднялась одна-единственная рука, рука Милосердия.
Правосудие взмахнула ладонью, давая понять, что голосование окончено, мысленно приготавливаясь к тому, что ей предстояло сказать.
— Именем Закона я, Правосудие, данное людям дабы избежать несправедливости, приговариваю Войну к смертной казни. Осужденная, вам предоставляется последнее слово.
Война смерила всех по очереди уничижительным взглядом и холодно улыбнулась.
— Мне кажется, приговор не слишком справедлив. К примеру, Казнь, которая виновна в смерти людей не меньше, чем я, спокойно сидит на заседании. Но не буду об этом. Странно, вы решили, что можете меня истребить. Сомневаюсь!..
Правосудие холодно взглянула на девушку.
— Вы закончили?
Война усмехнулась.
— Да. Мне больше нечего сказать.
— В таком случае,— слегка повысив голос, проговорила девушка,— я думаю, пора привести приговор в исполнение.
Казнь кивнула и стянула руки жертвы веревкой за спиной. Почему-то Война уже не сопротивлялась и, кажется, выглядела спокойно.
Когда она проходила мимо Правосудия, ее губы исказила кривая усмешка, и все заседатели услышали два слова, в которых, наверное, сконцентрировалась вся злоба.
— До встречи!..
Дверь захлопнулась.
Через несколько минут откуда-то издалека раздался выстрел, который гулко прокатился по комнате, усиленный эхом. Материнство вздрогнула и опустила глаза; Милосердие вздохнула, и даже на лицо Правосудия легла печаль. Минуты растянулись на вечность, которая отделяла выстрел от звука открывающейся двери. На пороге показалась Казнь. В отличие от девушек, находящихся в комнате, лицо ее было непроницаемо. Она, чеканя шаг, прошла на свое место.
Милосердие удрученно подняла руку, видимо, желая что-то сказать. Правосудие кивнула.
— Я хочу обратиться к Казни…— неуверенно начала девушка.—Раз уж мы только что положили конец Войне и мир почти стал идеальным… Предлагаю Казни отказаться от своих обязанностей.
Правосудие пристально посмотрела в глаза Милосердию.
— Я нахожу это довольно справедливым предложением. Казнь, согласна ли ты сделать это??
Ни на секунду в глазах Казни не мелькнуло сомнение. Девушка медленно прошла к столу и положила перед Правосудием заряженный револьвер.
— Я согласна.

Рагим МУСАЕВ
(г. Тула)
 Писатель, драматург. Член Академии российской литературы, белорусского литсоюза «Полоцкая ветвь». Родился в г. Богородицке Тульской обл. 6.11.1977 г. Окончил Юридический институт МВД РФ, Московский университет им. С.Ю. Витте. Нач. отдела анализа и контроля СУ УМВД России по Тульской обл., подполковник юстиции. В России и ряде стран — более 20 постановок в театрах и множество публикаций в журналах. Лауреат международных и российских литературных конкурсов. Победитель Всероссийского конкурса на лучшее произведение о работе следователя («Журналистика и литературная публицистика» (2011 г.). Лауреат литературных премий.
Писатель, драматург. Член Академии российской литературы, белорусского литсоюза «Полоцкая ветвь». Родился в г. Богородицке Тульской обл. 6.11.1977 г. Окончил Юридический институт МВД РФ, Московский университет им. С.Ю. Витте. Нач. отдела анализа и контроля СУ УМВД России по Тульской обл., подполковник юстиции. В России и ряде стран — более 20 постановок в театрах и множество публикаций в журналах. Лауреат международных и российских литературных конкурсов. Победитель Всероссийского конкурса на лучшее произведение о работе следователя («Журналистика и литературная публицистика» (2011 г.). Лауреат литературных премий.
КУДА ВЫЛЕТАЕТ ПТИЧКА?
Главы из семейной книги
МУЖЧИНЫ КОРОТКОШТАННОГО ВОЗРАСТА
Все началось с фотографии. Она нашлась в шкафу и удивила. На меня хитро смотрел мальчишка моих лет. Откуда он взялся? Других мужчин короткоштанного возраста в нашей семье я не знал. Одна моя фотография стояла на полке, другие, заботливо подписанные бабушкой, лежали в альбоме. А это кто? Неужели родители решили купить еще одного мальчика? Если вы не в курсе, меня купили в Москве, откуда тогда везли весь дефицит, в магазине «Прага» за миллион рублей.
— Кто это?
— Это дедушка.
— Мальчики не бывают дедушками.
— Это твой дедушка, когда он был мальчиком.
— Мой? Разве он тоже был мальчиком?
Так я понял, что мир существовал и до меня. Уже взрослым я рассмотрел ту фотографию внимательнее. Хитрюга в коротких штанишках — мой дед Вовка Саморуков. Здесь ему около трех лет, а, значит, вокруг идеального мирка фотографии 1926 год. В правом нижнем углу выдавлена фамилия мастера «Вакуленко». Сегодня это имя знают разве что собиратели старинных фотографий, а в начале ХХ века фамилия звучала не только в Туле, где сделан снимок, но и по всей России.
Легендарный фотограф Иван Павлович Вакуленко, работы которого поныне хранятся в Эрмитаже, с 1892 года владел крупными фотоателье в Туле в доме Астрецова, что на Киевской улице. Кстати, неподалеку располагалась мастерская его менее удачливого коллеги Ф.И. Ходасевича, отца знаменитого поэта.
Высокий уровень снимков принес Вакуленко многочисленные награды на всероссийских фотовыставках и даже личную благодарность Николая II. В 1898 году мастер передал дело сыну Владимиру. Несмотря на высокую конкуренцию и историко-экономические катаклизмы, салон Вакуленко продолжал работать и при советской власти, сохраняя в кадре неповторимый образ старорежимной безмятежности.
За спиной деда нарисованная дорога, лентой закручивающаяся за горизонт. Эту дорогу можно видеть еще на фотографиях Вакуленко начала века. Фотографы держали целый арсенал на все случаи жизни: уголок парка с непременными беседкой или колоннами, различные драпировки, пейзажи всех мастей…
На их фоне размещали реальные вазы с искусственными цветами, вместительные диваны, изящные ширмы или тумбы, на которые так удобно было опираться моделям. Нашего маленького хулигана поставили перед пасторальным заборчиком, дав в руки плюшевого кролика в забавных крапинах. Деревенскую идиллию дополняет трогательный барашек на колесиках.
Сложно поверить, что за кулисами снимка страна только что пережила гражданскую войну, военный коммунизм и уже начала переживать закат новой экономической политики, отчасти вернувшей дореволюционный комфорт жизни, чем люди с удовольствием и пользовались. Не зря знаменитое высказывание В.И. Ленина о том, что «значение Тулы для республики огромно», имело малоизвестное продолжение: «...но народ там не наш. За ним нужен глаз да глаз». Судя по тому, что снимок сделан в одном из лучших фотосалонов, а также по модному костюмчику и ботиночкам непоседы, семья главного бухгалтера Товарковского сахарного завода не бедствовала.
Но маленькому Володе на снимке взрослые проблемы пока малоинтересны. Он как раз начинает активно познавать мир, и даже в застывшей маленькой фигурке чувствуется жизнь и движение. На почти безволосой головке особенно выделяются огромные пытливые глаза. Одна из коротких штанин задралась, маленькая ручка крепко сжимает ушастого друга. Такое ощущение, что беспокойный позер застыл на мгновение, удивленный фразой: «Сейчас вылетит птичка!»
— Тогда, в детстве, мне было страшно интересно, где же пролетает эта невидимая птичка. Взросление разрушило и эту сказку. Просто на старых фотоаппаратах была очень долгая выдержка, доходившая до получаса. Чтобы люди, особенно маленькие, могли улыбнуться после утомительно долгого позирования, фотографы в нужный момент выпускали из укромного места птиц или мелких зверьков. Люди отвлекались, начинали следить за полетом птички и улыбались.
— Дед, получается, хитрому фотографу оставалось лишь поймать выразительный взгляд модели.
— Верно. Со временем от помощи живности отказались, а присказка осталась, продолжая интриговать маленьких и веселить больших.
— Знаешь, о чем я подумал? Может, американские улыбки в 33 зуба потому и стали у нас олицетворением натужного счастья, что производятся механическим растягиванием губ при произнесении слова «cheese»?
— Может. Привычное нам выражение счастливого лица традиционно вызывалось искренним удивлением и радостью от внезапного маленького чуда.
ГДЕ ИСКАТЬ ФАМИЛЬНЫЕ КЛАДЫ
— Дед, неужели ты тоже был маленьким?
— А как же, у меня были родители, у моих родителей их родители и так далее. 24 апреля 1923 года родился я.
— И ты сразу знал, что станешь моим дедушкой?
— Молодым я не задумывался, что доживу до таких лет. Не очень много, но прилично по современной жизни. Я пережил своего отца почти на 50 лет (он умер 36-ти лет), а он, было время, сомневался в моем здоровье. Первые мои воспоминания: со мной играют взрослые: мама, отец, родные. Думаю, мне тогда было года четыре. Помню, как мама пекла пышки, пироги и угощала меня. Отец рассказывал сказки.
— Какие?
— Разные. Больше прочих я любил слушать про Рейнеке Лиса. Автора я уже не вспомню. Эту книгу откуда-то принес отец. В ней описывались похождения хитрого братца Лиса, который из всех ситуаций умудрялся выйти победителем. В книге было много картинок, на которых лесные звери щеголяли в старинных костюмах. Лис, Лев, Кот, Кролик, Волк и другие, подобно героям рыцарских романов, носили шпаги и шляпы с перьями.
— Я знаю эту историю, ты мне ее тоже рассказывал. А где теперь эта книга?
— Сгорела вместе с домом во время отступления немцев в декабре 1941 года.
Эта история стала любимой сказкой и моего детства. Сложно ска-
зать, кто получал большее удовольствие: я, слушая, или дед, рассказывая. Естественно, что одни и те же истории каждый раз обретали новые подробности. Иногда я требовал продолжения, и деду приходилось включать фантазию. Мы даже играли в эту сказку. Я был изворотливым братцем Лисом, дед — сильным, но глупым братцем Волком, а когда у меня появился брат, он стал братцем Котом.
Обычно я, братец Лис, возлежал на мохнатой шкуре пледа посреди собственного замка из стульев, передо мной стоял кувшин вина, валялись обглоданные кости. Ко мне заходил братец Волк, и игра начиналась. Спустя тридцать лет она получила неожиданное продолжение, но об этом позже.
— Дед, а что тебе еще запомнилось из детства?
— В памяти почему-то остались какие-то странные фрагменты. Может, потому и остались, что странные. Помню, как сидел за печкой и отколупывал от нее глину, которой та была обмазана.
— Зачем тебе была нужна глина?
— Я ее ел.
— Что ты ее?
— Ел. Организму не хватало железа. А еще помню, как ездил с отцом за жмаком.
— А это что такое?
— Жмак, он же жмых,— такие блестящие прессованные кусочки с приятным запахом, остатки семян подсолнечника после отжима из них масла. Это хороший корм для лошадей, свиней и другого скота. Мы держали небольшое хозяйство, я вместе с другими мальчиками пас скотину, жег костры. Когда мне было примерно 5 лет, я катался на лыжах и на коньках, какие мне сделали братья мамы, а позднее отец купил мне лыжи в Туле. Катался с горок, просто по полю. Меня брал с собой уже взрослый парень по фамилии Корякин, имени не помню. Он уже после Отечественной войны был заведующим Тульским облздравотделом. Помню, как ходил купаться с ребятами на пруд в поселке Товарковский, где мы жили в это время. Помню, как играл со сверстниками в войну.
— Дед, мы тоже так играли! У нас были русские и немцы, а у вас?
— А у нас «красные» и «белые». У меня было разное оружие, сделанное мною же из досок: кинжалы, сабли, винтовки, револьверы. Я много работал ножом, делая оружие. Делал это неумело, поэтому руки постоянно были в порезах.
— Ты в детстве курил?
— Как-то двое мальчиков старше меня подговорили, чтобы я принес из дома папирос. Отец не курил, но папиросы у нас были. Я принес папирос, и мы на чердаке сарая стали их курить. Как мы не сожгли сарай, не знаю, но я скоро накурился так, что полностью отключился. Ребята, бывшие со мною, сказали об этом моей матери, которая забрала меня, уложила спать, а когда я пришел в себя, отругала. Позже мы переехали из поселка Товарковский, где отец работал главным бухгалтером Товарковского сахарного завода, в город Богородицк, поближе к родственникам.
— К каким родственникам?
— Нас, Саморуковых (я имею в виду не всех старших, родителей, а мое поколение), в Богородицке было трое: Вера, Юрий (брат с сестрой) и я. Мы очень дружили. Их родители — Саморуков Михаил Васильевич и Саморукова (Ломакина) Ольга Павловна. Мой отец Саморуков Владимир Васильевич был родным братом Михаила, а моя мама Елизавета Павловна была родной сестрой Ольги. Два брата женились на двух сестрах.
— Просто кино.
— Жизнь оказалась интереснее кино. Я всегда считал, что главные товарищи моего детства Юрий и Вера переживут меня. Женщины вообще живут дольше мужчин, их родители были здоровые, крепкие люди. Однако получилось, что Юрка, всю войну просидевший в зенитной артиллерии связистом, нераненый, умер первым, не дожив 3-х месяцев до 70 лет (он родился 20 мая 1925 года). Поехал ловить рыбу на Финский залив Балтийского моря (жил в г. Выборге), и с ним что-то случилось, возможно, инсульт. Он пролежал около суток в луже на льду, спасти его в больнице не удалось.
— Жаль. А Вера?
— Вера жила в г. Феодосии с мужем-фронтовиком Добрыниным Виктором Григорьевичем. Деньги в семье водились, и она вбила себе в голову, что муж спрятал в доме приличный сверток с золотыми изделиями. После смерти мужа в 1981 году Вера жила замкнуто, скупо, ни с кем не общаясь. Найти клад ей никак не удавалось. Чтобы его случайно не нашел кто-то из родных, любивших приезжать к ней летом, она отвадила всех от дома.
— Дед, а где чаще всего прятали клады?
— Вариантов множество: в углах чердака, под коньком крыши, в потолочном перекрытии. Их вмуровывали в стены дома и в печи, прятали под подоконником и под порогом, укрывали в пустотах мебели. Погреб, хлев, сарай, колодец, уличный туалет, навозная куча… Все зависело от того, кто и что прятал. 19 ноября 2001 года Вера умерла в возрасте 79 лет. Перед этим упала на землю: по-видимому, тоже инсульт.
— А как же клад?
— Наследники Веры, к тому времени уже жившие в Канаде, перерыли весь дом и двор, но клада не нашли.
Мой клад нашел меня сам. Как-то, по обыкновению, я зашел в букинистический магазин и в шкафу с антикварными книгами обнаружил основательно почитанное издание 1902 года со знакомым названием «Рейнеке Лис». Я обомлел. На старинной гравюре в шляпе с пером возлежал Лис. Перед ним стояли кубок и кувшин вина, на блюде валялись обглоданные кости, сзади виднелись стены старинного замка. Эта и прочие иллюстрации похождений братца Лиса и других зверей почти копировали стиль рисунков деда. Я держал в руках фамильный клад, сожженный фашистами почти семьдесят лет назад. Сказка из детства деда стала былью. Это случилось как раз в годовщину его смерти.
Эту книгу читал мой прадед моему деду. Думаю, именно он играл тогда роль братца Лиса, его отец, скорее всего, братца Волка, а то, что свою маму дед звал «Лисонькой», известно абсолютно точно.
Естественно, чудом воскресшая книга, несмотря на цену, перекочевала в мою библиотеку. Наконец стало известно имя писателя: Иоганн Вольфганг Гете. Автором звериных иллюстраций оказался известный немецкий художник Вильгельм Каульбах. И именно это первое в России издание истории о братце Лисе признано национальным достоянием и запрещено к вывозу за границу. Так что свой клад я нашел. Точнее, он нашел меня сам.
Сергей ЛЕБЕДЕВ
(г. Тольятти Самарской области)
 Родился в 1949 г. в Рязанской обл. Лауреат всероссийской премии «Левша» им. Н.С. Лескова, лауреат-победитель поэтических конкурсов. Член РСПЛ (Самарская региональная организация), член Тольяттинского отделения СПР.
Родился в 1949 г. в Рязанской обл. Лауреат всероссийской премии «Левша» им. Н.С. Лескова, лауреат-победитель поэтических конкурсов. Член РСПЛ (Самарская региональная организация), член Тольяттинского отделения СПР.
В ПУТИ
Солнце уже давно поднялось над линией горизонта и немилосердно, с яростью, светило в окно купе. Я проснулся. Поезд, покачивая вагонами на поворотах и стуча колесами на стыках рельсов, шел на юг, купе наполнялось дневным светом. Проехали по небольшому мосту через степную речку, в дорожную мелодию новым аккордом ворвался четкий металлический перестук. Показались небольшие пригородные дома с палисадниками, за ними высился огромный элеватор, и состав, замедляя ход, подкатил к зданию вокзала. Город Балашов. Застучали открываемые проводницей двери вагона. В коридоре послышались голоса, шаги.
Дверь распахнулась, и в купе вошел седоволосый мужчина среднего роста, широкоплечий, довольно плотной комплекции, лет шестидесяти. Он улыбнулся, поздоровался и назвал свое имя — Николай. В купе, кроме меня, никого не было, и Николай занял нижнюю полку. Время отпусков закончилось, вот и поубавилось количество желающих отдыхать у моря.
— Вы не к морю едете? — спросил он.
— Да нет,— ответил я,— еду навестить свою двоюродную сестру в Ростов, давно не виделись, да и поддержать ее немного надо, недавно она похоронила мужа.
Николай удивился:
— Надо же, в наше время и с родными братьями-сестрами не особенно общаются, а Вы к двоюродной едете.
Он занялся своим устройством, поэтому наступила некоторая пауза в нашем разговоре. Поезд плавно набрал скорость, колеса привычно застучали свою нехитрую мелодию. За окном открылись степи с заболоченными низинами, которые были сплошь покрыты высоким тростником. Наш разговор возобновился, и мы не заметили, как поезд подошел к станции Поворино. На перроне толпились местные женщины, увешанные шерстяными вещами. Они продавали вязаные ими же носки, варежки, платки, перчатки, пледы.
— В Поворино овец разводят,— сказал Николай,— вот народ и занимается шерстяным бизнесом.
Но покупателей из поезда на перрон вышло не так много.
— Пожалуй, и товар поворинского бизнеса не бойко расходится,— ответил я. Мимо наших окон в это время проплывало диковинное здание вокзала, и я засмотрелся на необычное строение. Крыша вокзала была сделана в стиле крепостных стен с башнями, в бело-зеленых тонах, и напоминала о том, что когда-то Поворино было пограничным форпостом государства Российского.
За Поворино Воронежская область раскинула перед нами всю ширь своей земли. Невысокие горы, холмы, низины, изрезанные руслами небольших извилистых речек. Мы молча наблюдали за уходящими вдаль однообразными картинами российского Черноземья. Вот небольшое село. По дороге, вьющейся вдоль железнодорожного полотна, идут молодые мужчины. Оба чернявые, худощавые, одеты в простые теплые куртки, в спортивные трико, на ногах — короткие резиновые сапоги. За селом одинокий старик и такая же одинокая корова. По-видимому, он вывел ее на лужок к дороге, которая уходила кривой лентой в степь. Вдоль дороги — кучи мусора, битого кирпича. Картина безрадостная. И подумалось, глядя на однообразное, грустное, тихое, что сейчас наступило время, когда русскому мужику стало все равно, какая будет власть, будет ли в стране перспектива выхода из кризиса, существует ли армия, способная защитить страну. Эти понятия истираются в повседневной жизни, проходящей в пьянстве и бедности. Какая бы ни была власть, потребность быть сытым, обутым, одетым остается на первом месте. И как это ни страшно думать, возникают от беспросветной жизни в голове русского мужика мысли о том, что — хоть иноземное иго, лишь бы потребности были удовлетворены. Вот и не ходит поэтому русский мужик голосовать за новоявленных кандидатов, а если и ходит, то голосует назло «демократическим» призывам власти. Развал героического прошлого страны привел к безразличию и наплевательскому отношению, соединенному со злобой и вредительством. Что бы ни случилось в стране, хоть катастрофа, но гайку для своей рыболовной снасти он все равно открутит от рельсов. Тем более что они теперь не государственные, а какого-то железнодорожного олигарха.
Промелькнула станция Ольха. В пристанционном поселке дворов 250—300. Поля вокруг заросли кустами и сорной травой. Среди этой дикой растительности пасется стадо — пяток коров и три овцы. И опять вдоль железной дороги кучи мусора…
— Что-то грустные картины и мысли грустные навевают,— услышал я голос Николая,— Даже вспомнились сейчас, сам не знаю, почему, два невеселых случая из моей жизни. Я бы даже сказал — трагические случаи. Они, конечно, ничего общего не имеют с сегодняшней действительностью, и вообще, по большому счету, из другой темы, но все это — жизнь наша. Если хотите, я расскажу. За разговорами и путь короче становится, и время незаметно летит.
Я согласился, зная, что если человек вспомнил о трагическом, значит, на то есть веские причины, да и высказаться в такой ситуации — как будто камень с души сбросить, облегчив ее от тяжелых воспоминаний или дум. Даже, если не услышишь в ответ слов поддержки или сочувствия. Но высказанное облегчает внутреннее напряжение души.
Николай помолчал, глубоко вздохнул, и начал свой рассказ.
— Довелось мне быть в жизни свидетелем, как человеческие слабости и болезни нервной системы приводят людей к поступкам, прямо скажем, неразумным. Конечно, я не специалист по душевным болезням и по негативным склонностям. Но то, что произошло с моими знакомыми, во многом повторило несчастья, случившиеся с известными всему миру людьми. Думаю, что единственным оправданием таким поступкам может служить лишь душевная болезнь человека. Ведь уравновешенность и устойчивость личности создаются преобладанием умственной жизни над чувственной и страстной стороною. А если и алкоголь начинает господствовать над человеком, то это еще больше приводит его в умопомрачение. Ну, чтобы больше не утомлять своими дилетантскими рассуждениями, перейду к рассказу, и вам станут яснее мои слова.
В далеких семидесятых годах прошлого столетия, после окончания института, приехал я, молодой специалист, по распределению в перспективный, растущий город. Получил направление на работу в технологический цех одного из только что введенных в эксплуатацию заводов. Мне сразу же предложили должность мастера. А поскольку я приехал с семьей, то и жильем обеспечили. Небольшим, конечно, но отдельным. Все не по квартирам маяться. Было такое время в истории нашей страны, когда и промышленность повсеместно развивалась, и строительство жилья велось. Как писали в газетах того времени, «бурными темпами». Работал я в службе технолога цеха Бориса Михайловича Тащилова. На всю жизнь запомнил его имя. Был он старше меня лет на пятнадцать, а значит, и возраста — лет тридцати шести или тридцати семи. В общем-то, человек довольно молодой, но мне, выпускнику института, казался он мужиком умудренным, с производственным и житейским опытом. Многое я узнал от него. Казалось бы, такая мелочь, как ведение технической документации. Но было все в таком идеальном порядке, что значительно отличало его от других технологов. Все папки с документами подписаны, заведен реестр на всю документацию, так что если какая-то бумага вдруг срочно понадобится, все знали, что надо обращаться к Михалычу. Так в цехе его все и называли — наш Михалыч. Через несколько лет, когда я уже сам работал технологом в другом цехе, то всегда старался следовать той аккуратности в отношении к документации, которую унаследовал от Михалыча. Очень это помогало в работе.
В обыденной жизни Михалыч выслушивал любого человека, с каким бы вопросом тот не обращался. Была у него одна особенность. На многие вопросы он отвечал строчками из стихов Сергея Есенина. Особенно часто я слышал от него: «Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете». Помню, была в шкафу его технической библиотеки вместе со справочниками и расчетами по технологии серенькая книжка стихов Сергея Есенина. Издания, кажется, тысяча девятьсот пятьдесят шестого года. Единственная книжка не технического содержания. Довольно потрепанная, видно, хозяин частенько брал ее в руки. Выпивал Михалыч тоже по-есенински. Случались у него и запои. И если бы не его технический талант, умение найти простые решения сложных технологических проблем, давно бы начальство дало ему от ворот поворот. Но прощались ему все слабости, потому что человеком Тащилов был незаменимым.
Однажды мы были удивлены тем, что Михалыч наш внешне изменился. Причем в положительную сторону. На работу стал приходить в белой рубашке с обязательным атрибутом — галстуком, да и по утрам запаха «вчерашнего» не чувствуется. А причина оказалась банально простой. Ушел наш Михалыч от жены и от сына к другой женщине с другим сыном. Вот она, будучи помоложе и поактивнее, первой и взялась за перевоспитание Михалыча. А месяца через три после случившейся с ним метаморфозы освободилось место начальника цеха. Кандидатура Михалыча оказалась самой близкой и подходящей к этому месту. По слухам стало нам известно, что перед назначением на новую должность состоялся с ним серьезный разговор у директора завода, который жестко, без обиняков, предупредил нашего Михалыча о том, чтобы прежние слабости он забыл напрочь.
Прошло еще месяца три. Все вроде бы стало налаживаться — и на работе, и в быту… Но случилось то, что случилось. Сорвался наш Михалыч. Да и как не сорваться. Слаб человек перед искушениями дьявола, особенно когда змий зеленый одолевает. И если этот змий постоянно рядышком хвостиком помахивает, да зазывающим взглядом в глаза посматривает, тяжело человеку вести борьбу с ним.
Для различных цеховых нужд, а это и промывка приборов, и протирка контактов электроустановок, применялся этиловый спирт. Объемы довольно внушительные — в десятках литров. Поэтому всегда у начальника цеха был собственный резерв на неотложные, так сказать, нужды. Спирт — ректификат, то есть синтетический. А какая разница между спиртом техническим и пищевым? Да для русского человека — нет никакой. Формула химическая одна и та же, действие на организм идентичное. Вот и использовался этот резерв в качестве жидкой валюты. Всегда на производстве происходят непредвиденные случаи — срочный ремонт оборудования, опять же поломка какая-нибудь. Да чего греха таить, а демонстрации? На Международный день солидарности трудящихся, а проще на Первомай, да и на годовщину Великой Октябрьской революции надо организовать достойный выход работников цеха. Партком зорко следил за политической активностью масс. Конечно, приподнятое настроение присутствовало, но мужская половина коллектива всегда знала, что праздник — не праздник, если не будет дармового угощения перед демонстрацией. Вот и спрашивали всегда: «А будет?» Ну, а как без этого?
Так вот, владея некоторым запасом цехового объема спирта, как тут не пригубить самому из родника? Вот и сорвался наш Михалыч. Женщина, с которой он жил, выгнала его. Сразу же произошли разительные перемены в его внешнем виде. Помятость лица, неопрятный вид нестиранных рубашек, запои по выходным. Что странно, но это не мешало ему решать производственные вопросы, а уж в техническом мышлении не было ему в цехе равных. Но все до поры, до времени. После очередного выходного запоя не смог он остановиться, и был направлен на лечение в наркологический диспансер. Через три недели вернулся посвежевший, бодрый и полный новых сил. Шутил. Сыпал направо и налево строками Есенина. «Ничего! Я споткнулся о камень, это к завтраму заживет!» Рассказывал о тех, с кем проходил лечение. Вспоминал ветеринара, с которым лежал в одной палате. Ветеринар спился на почве лечения коров от невроза, а проще — вместе с ними пил стаканами валерьянку от излишнего возбуждения. Ну, этот случай про ветеринара так, к слову пришелся. А Михалыч, вроде как снова остепенился.
Но сколько волка ни корми, а у веревочки всегда конец отыщется. Через месяц, в одну из пятниц, не уходя с работы, размочил Михалыч свое лечение. Два выходных дня не выходя, горевал в кабинете. «Ну и что ж, помру себе бродягой, на земле и это нам знакомо»,— как говорил поэт.
В понедельник с утра кабинет начальника цеха закрыт, самого его на работе нет. Директор завода рвет и мечет. «Найти и уничтожить!» А где искать Михалыча? Наконец, нашли ключи от его кабинета, открыли… А он — там! С одутловатым, почерневшим лицом, небритый, лежит и похрапывает на диване. Начальник производства его растолкал, кричит на него, кулаками размахивает, а тому — трава не расти. Начальник производства выгнал из кабинета всех, о чем-то с ним говорил. Михалыч понял, что надо идти к директору завода. А как идти в таком непотребном виде? Вот он и попросил принести ему бритву, чтобы хоть немного приличный вид приобрести. Хотя зачем он теперь, приличный вид? Ясно и так, выгонять будут. Начальник производства пошел в свой кабинет за механической бритвой. Принес, велел через полчаса быть готовым. Прошло ровно полчаса. Возвращается. А дверь кабинета опять закрыта. А ключи-то он оставил на столе у Михалыча. На его нервный и громкий стук — мертвая тишина. Пока бегали за инструментом, пока вскрывали замок, ломали дверь, прошло еще минут двадцать. Открыли.
Михалыч висел на трубе центрального отопления, шея его была затянута не мертвой петлей, а петлей, которую он соорудил из матерчатого ремня противогазной сумки с металлической пряжкой. И висел он на правой стороне шеи. На столе была записка, которую сразу же забрал начальник производства. Так никто никогда и не узнал, что в ней было написано. Может быть: «До свиданья, друг мой, до свиданья, не печалься и не хмурь бровей…».
В тот день я работал в ночную смену. Обо всем, что случилось в трагический понедельник, я узнал из рассказов сослуживцев. Ночью на кузнечном участке ремонтного цеха гроб с телом нашего Михалыча запаяли в цинковый ящик. Я решил попрощаться с ним, но когда пришел, ящик был уже запаян. Полумрак, огонь газовых горелок, смрад… Какая-то шекспировская обстановка средневековья. Тело Михалыча отправили на родину, к родителям, далеко за Урал.
Мой спутник замолчал, посмотрел виновато.
— Извините за грустные воспоминания. В поезде тянет на откровенность. Это как с самим собой разговаривать. Ведь я вас завтра увижу в последний раз, и все, о чем рассказал, если даже и откроете кому-то, останется вне моего ведения. Поэтому я без оглядки и выкладываю свою душу, даже с близким так не поговоришь, всегда будешь чувствовать его взгляд, а в молчании и осуждение порой сохраняется.
Продолжу я дальше рассказ, с вашего разрешения. На этом мои истории, связанные с именами известных и знаменитых людей, не кончаются. Прошло много-много лет с того события, о котором я рассказал. Почитай, лет около тридцати пяти. И я вновь был ошарашен на крутом изгибе, который подготовила мне жизнь.
Но, пожалуй, начну по порядку и, как говорится, от печки. Чтобы вы поняли мою связь с этим случаем. Когда я учился в институте, у меня было множество друзей. Я легко сходился со всеми. Характер у меня открытый, можно сказать, даже чересчур, поэтому очень доверчив к людям. За что порой и расплачиваюсь собственными разочарованиями. Но это отдельная страница моей биографии. Так вот, как-то само собой сложилось, что по своим интересам, по родственному интеллекту собралось нас вместе четверо парней. Мы вместе сидели на лекциях, порой вместе прогуливали их. Устраивали на последний рубль пивные посиделки в одном полюбившемся нам заведении, в пельменной с названием «Девятый вал». Потому что там висела аляповатая, оригинального внушительного размера копия картины Ивана Айвазовского. На первых двух курсах нашей учебы в институте, пожалуй, я один из четверых не придавал особенного значения учебе. Это уже на третьем курсе, когда начались специальные предметы, учеба для меня приобрела совершенно другую окраску — появился интерес и, как следствие, желание узнавать новое, а значит, и учиться. А на первых двух курсах я перебивался повторными сдачами и переносом экзаменов на осень. Друзья же мои учились вполне прилично, и в зачетках у них не было места даже «удочкам». Особенно в учебе отличался Виталик Резунков.
Может быть, сказывалось то, что учебу свою мои друзья продолжили после школы, по инерции, так сказать. А я, не поступив в институт сразу после окончания школы, отработал год на заводе слесарем, почувствовал вкус свободы, и перестроиться снова на постоянные занятия мне было трудновато. А Виталика после первой сессии пригласили даже совмещать учебу с работой лаборанта на кафедре химии, где он успешно, к своей повышенной стипендии, получал еще и зарплату — рублей семьдесят или восемьдесят.
Особенно наша компания сдружилась в строительном отряде после первого курса. В тот год впервые для студенческих отрядов ввели специальную форму, и выглядели мы очень эффектно, под «десантуру». В юности душевные порывы сближают, потому что набор внутренних свойств одинаков, это и роднит, позволяя понимать друг друга. Хотя и количество информации, которой владеешь, бывает очень различным. Но юные души открыты для нового в жизни, а значит, и для общения. Так и мы в то время очень тесно сошлись, дружили по-настоящему. Но чем ближе становилось к нам окончание института, тем реже стали наши встречи, а пивные посиделки прекратились совсем.
Распределение на работу после института развело нас по разным городам и весям. Один уехал в Москву продолжать учебу в аспирантуре, второй был принят преподавать в вечернем филиале нашего института, я был направлен на завод и уехал устраивать жизнь своей семьи в другой город. Виталик остался работать на кафедре, его оформили в качестве мнс и обещали зачислить в аспирантуру. Что, конечно, и было сделано. Но кто такой мнс? Вернее поставить вопрос так — а какая зарплата у него? В то далекое и не совсем плохое советское время у младшего научного сотрудника она составляла сто рублей. А тут и семья у Виталия образовалась, родился сын.
Помню, мы с ним встречались года через два после института, я-то хоть и работал мастером, но получал свои двести рэ, а он продолжал корпеть на кафедре мнс-ом, готовя материалы для диссертации. Но уже через три года узнаю, что семья у него распалась. А причина до простого безобразия банальна — жена требует денег, а их нет. Вот и бросил он свои научные изыскания, и укатил на север, кажется, в Нижневартовск. В середине семидесятых годов шло бурное развитие нефтедобычи, государство не скупилось на устройство новых городов для нефтяников. Связи наши окончательно оборвались. И лет пять я о нем ничего не знал.
Но поскольку мы, выпускники института, продолжали встречаться каждые пять лет на кафедре, то кое-что о его жизни мне стало известно из рассказов бывших однокашников. Виталий окончательно забыл, что у него есть диплом о высшем образовании, окончил курсы сварщиков и устроился работать на прокладке нефтепровода. И многое сумел — стал мастером высокой квалификации — паспортистом. Но семью не завел, жил один, постоянно в командировках.
И вот, буквально лет семь назад, мы с ним встретились. После этого он и в гости к нам приезжал. Все такой же веселый, в глазах как будто все время солнечный майский день. Был он с женщиной, представил ее своей подругой. К тому времени Виталий закончил работу на газопроводе — вышел на пенсию в 55 лет по вредному стажу, как электросварщик. Занялся каким-то сетевым маркетингом. Мы после встречи расстались очень тепло, по-дружески, радостно. И тем нео-жиданнее и нелепее было для меня известие о его смерти.
Когда я года через четыре после нашего последнего общения с Виталием приехал на традиционную встречу выпускников института, среди собравшихся его не было. Зато я встретился с одним из друзей нашей юношеской четверки. И первый же вопрос, с которым я к нему обратился, был про Виталия.
— А ты что, ничего не знаешь? — удивился он.
Я недоуменно пожал плечами.
— Виталик застрелился.
Я даже не мог сообразить — а что же дальше спрашивать? Эти слова ошарашили меня до степени душевного ступора.
И рассказал товарищ мне вот что. Виталий продолжал жить в Нижневартовске. В тех природных местах и охота, и рыбалка замечательные, а что еще пенсионеру надо? Купил он двустволку. И вот, когда ему исполнился шестьдесят один год, он совершил поступок, повторивший в точности все то, что сделал Эрнест Хемингуэй ранним утром второго июля тысяча девятьсот шестьдесят первого года. Он так же поставил ружье прикладом на пол, наклонился вперед, приставил стволы двустволки ко лбу и одновременно спустил оба курка.
Я очень мало знал о жизни Виталия в последние тридцать лет, поэтому могу лишь предполагать, что могло толкнуть его на этот поступок. Виталий так же, как и великий американский писатель был поглощен в последние годы жизни своими мыслями о том, что смерть будет лучшим подарком в жизни. Но если Хемингуэй был подавлен состоянием собственного здоровья, которое ухудшалось с каждым годом, то Виталий, по всей видимости, серьезно пересматривал свою прошлую жизнь, которая уже ничего не значила для него, отработавшего свой ресурс и фактически ничего не достигнувшего в жизни. Угнетенный собственным одиночеством, которое было скрашено толь-ко постоянным чтением книг любимого писателя, он ничего лучшего не смог придумать, как повторить его последний поступок.
Николай замолчал, и мне не хотелось отвлекать его от нахлынувших тяжелых воспоминаний. Вагонные колеса, как невидимые часы, продолжали отстукивать секунды, минуты, часы нашей жизни. Жизни, цена которой — наши собственные дела. И поступки, которые порой ставят точку в конце наших дел.

Кира КРЕСТЬЯНКИНА
(г. Тула)
 Неоднократный призер районных, городских и областных конкурсов (проза). Победитель городского конкурса «Ступени» (проза, 2010 и 2011гг.). Печатается в альманахах и журналах.
Неоднократный призер районных, городских и областных конкурсов (проза). Победитель городского конкурса «Ступени» (проза, 2010 и 2011гг.). Печатается в альманахах и журналах.
МАМА НА НОВЫЙ ГОД
Все было ею обдумано уже тысячу раз. Она долго вынашивала в себе эту мысль. Она привыкала к ней. Она, конечно же, хотела воплотить ее в жизнь, но продолжала переживать и бояться. Сегодня с мужем они обсудили все уже в десятый раз и, наконец, они решились.
— Лида,— муж обратился к ней, оторвав от мыслей, в которые она погрузилась с головой.— Лида, не переживай. Мы все с тобой уже обсудили. Мы поступаем правильно.
Лида робко улыбнулась и крепче сжала его руку. Они шли по улице. Снежинки кружились в воздухе, танцевали свой любимый зимний вальс. Был выходной день, поэтому многие люди пребывали сейчас на улице, спешили по каким-то своим личным делам, наконец-то не связанным с работой. Нельзя сказать насколько были важными эти дела: значительными или просто приятными хлопотами. Но у одной пары дело сейчас было нешуточное. Не зря они так волновались. Да, оба. Хоть Максим и храбрился, но его невозмутимость все же была напускной.
— Я знаю, милый,— ответила Лида подбодрившему ее мужу. Просто все равно волнуюсь. Не бойся, я справлюсь. Мы сегодня идем туда впервые, в следующий раз я буду уже спокойнее…
Вдруг Лида не заметила перед собой ледяную поверхность и, ступив на нее, поскользнулась.
— Лида! Осторожнее,— не дал ей упасть муж.— Держись-ка лучше за меня покрепче.— С этими словами он взял ее под локоть, и они пошли дальше. Остаток пути преодолели в молчании…
Супруги прошли в ворота и направились в сторону большого здания. Над входом крупными буквами было обозначено: «Городской детский дом №3». Максим и Лида, продолжая молчать, зашли внутрь. В помещении было тепло, но Лида все равно покрылась мурашками, которые разбежались по всему телу как угорелые. Охранник показал им кабинет заведующей.
— Здравствуйте, пожалуйста, проходите,— голос заведующей был бодрый и твердый.
— Сегодня,— продолжала она, когда супружеская пара разместилась на стульях,— вы можете поиграть с группой детей. Просто понаблюдайте, пообщайтесь. Не все, кто приходит к нам побыть с детьми, после решаются на усыновление или на удочерение. Но поиграть с ребятами вы можете, а дальше уже зависит от ваших сил и желания. Они у нас все славные, вот увидите.
После небольшой беседы с заведующей, Максима и Лиду проводили в игровую комнату. Детям сообщили, что у них сегодня гости. Да еще и с подарками. Детки были маленькими, годика 3—4. Лида оробела поначалу, ведь столько пар открытых детских глазенок уставилось на них. Дети ничего от них не ждали. Никто не собирался бросаться к ней на грудь с криками «Мама!» Они здесь привыкли к посетителям. Но этого было и не нужно. Дети всего лишь смотрели на своих гостей с любопытством. И этого было достаточно, чтобы у Лиды встал ком в горле.
Максим взял ее за руку и решительно повел за собой на середину комнаты. Они уселись на ковер и вынули из пакета игрушки. Все ребята устроились рядом и стали рассматривать то, что оказалось на ковре. Лида уже взяла себя в руки, заговорила с одним из малышей.
Тут были и мальчики, и девочки, все они сидели вместе, началась игра. Лида и Максим играли с детишками и одновременно разговаривали с ними. Они ни о чем их не расспрашивали напрямую. Просто в процессе игры дети делились своими мыслями и мечтами. Они были так открыты миру, что у Лиды то и дело сжималось сердце от осознания того, что рядом со многими из них так и не окажется людей, которые станут им родными, которые будут их поддерживать и любить.
Выходя на мороз, Лида подумала, что после встречи с этими детьми внутри у нее осталось тепло. Это ощущение она и понесла в себе домой. Ей сейчас не хотелось говорить. Максим это понимал. Он шел рядом, придерживая ее за локоть, чтобы она не поскользнулась, а мыслями был среди детишек, с чьим миром ему удалось сегодня соприкоснуться. Конечно, они продолжали думать о том, чтобы принять в свою семью ребенка. Казалось, что в последнее время они ни о чем другом и не вспоминали. Но сейчас они еще больше укрепились в своем желании. В их семье появится малыш. И тут не о чем размышлять!
— Они славные ребята, да? — Говорил за чашкой чая этим же вечером Максим.
— Просто замечательные! — подтверждала Лида.
— Но как нам среди них найти нашего?
— Мы почувствуем это. Я уверена, что почувствуем.— Прикрыв глаза, Лида вдохнула запах ароматного чая.— Дай только срок...
— Максим!
— Что?! Что случилось?! — испуганный муж помчался в спальню.
— Я видела нашего сына! — Лида только что проснулась, сидела на кровати, сжимая одеяло.
Максим медленно опустился на постель рядом с женой. Нет, он, конечно, понимает, реалистичный сон может присниться, и когда ты только что был там, а в эту секунду уже в собственной кровати, то тебе нужно время, чтобы придти в себя, но пугать-то так зачем?
Заметив замешательство Максима, Лида спохватилась:
— Ой, извини. Напугала тебя, наверное. Сон просто был удивительный. В нашем доме был мальчик, мы ему читали книжку с тобой на разные голоса, а он слушал с большим интересом, звонко смеялся, а потом повернулся ко мне. Я очень хорошо запомнила, что у него были зеленые глаза, такие светлые. И сказал: «Мама, какая замечательная история».
Максим увидел, что глаза ее заблестели от слез, поэтому он крепко прижал ее к себе, поцеловал в щеку и произнес:
— Хороший сон, милая, очень хороший сон, не стоит расстраиваться.
Какое-то время они сидели молча, обнявшись, Максим гладил жену по голове, а она уткнулась носом в его плечо и вспоминала свой сон.
Они снова пошли в детский дом, пришли в ту же группу детей и устроили с ними интересную игру. Но тут Лида заметила одиноко сидящего мальчика, он сосредоточено играл в кубики, но почему-то отвлекся на несколько секунд, повернувшись в ее сторону. На нее смотрели светлые зеленые глаза, ее как холодной водой окатило. Мальчик уже не смотрел в ее сторону, продолжая заниматься своим городом из кубиков. Но Лида замерла в одном положении, не в состоянии пошевелиться или сказать что-нибудь. Наконец, она подчинила себе свое тело и голосовые связки и тронула Максима за руку:
— Это он.
— Кто он? — не понял Максим
— Помнишь? Мальчик во сне. Это он. Вон, с кубиками играет. Это точно он. Мне снился этот мальчик…
Лида подсела к мальчику с кубиками поближе.
— Привет.
— Здравствуйте.— Серьезно ответил мальчик.
— Я — Лида. А как тебя зовут?
— Денис.
— Очень приятно, Денис, с тобой познакомиться. А что ты строишь?
— Город Счастье.
— О, какое интересное название. В этом городе все жители будут счастливы?
— Да, если захотят.
— А разве кто-то хочет быть несчастным?
— Наверно.
— А можно тебе помочь построить твой город?
Мальчик пожал плечами.
— Он не мой, ведь я там не живу. Но попробуйте.
— Вот и хорошо, мы вместе его быстрее построим,— улыбнулась Лида, принимаясь за кубики.
Пока жена общалась с мальчиком, Максим подошел к воспитателю и спросил про него.
— А, Денис. Ему 4 года, серьезный парень растет, всегда очень сосредоточено выполняет задания, но и посмеяться любит. Но улыбается он редко, только среди своих. Чужих он к себе подпускать сразу не особо-то любит.
— Мне кажется, я его не видел прошлый раз.
— А так его и не было. Приболел он тогда малость, мы ему дали отлежаться, чтобы других ребят не заражать. А сейчас он на поправку пошел. Так что прошлый раз вы его, действительно, не видели. А что? Понравился мальчонка? Дениска у нас добрый очень и смышленый.
Максим тоже немного пообщался с мальчиком и помог строить «Счастье». А о том, что сказала воспитательница, сообщил Лиде уже по дороге домой.
— Лида, представляешь, мы не видели его раньше. Не могло тебе подсознание выдать лицо ребенка, которого ты мельком видела прошлый раз. Так как ты не видела его. Не знаю, как он мог тебе присниться.
— Значит, его не было в тот раз? Удивилась Лида.— Вот как. Но я точно видела во сне именно его. Нет, сон, конечно, размытый был, но эти его ясные глаза мне очень хорошо запомнились.
— Да я тебе верю. Просто это что-то удивительное.
Весь город уже был украшен к Новому году. В окнах сверкали гирлянды, то и дело встречалась украшенные елочки. Все, что могло сверкать, мигать, переливаться и блестеть, было вывешено на улицах города. Лида посмотрела на всю эту мишуру, которая должна была создавать праздничное настроение. До Нового года был еще месяц, но весь город усиленно преображался, чтобы встретить самый важный день в году как подобает.
Ну что ж, наблюдая за всем этим переливающимся нарядом Зимушки-Зимы, действительно, на ум приходили новогодние песенки, образы праздничного стола, вспоминался запах мандаринов, и появлялись мысли о чудесах.
— Максим,— сказала Лида после некоторого молчания,— а, может быть это чудо? Знаешь, этот сон. Может, это нам подарок на Новый год? С его помощью я теперь знаю в лицо своего сына.
Максим внимательно посмотрел на жену, слегка задумавшись над ответом. А потом произнес:
— Что ж, в таком случае, мы с тобой давно не получали таких чудесных подарков.
Лицо Лиды озарила благодарная улыбка. Главное, что муж ее понимает и всегда готов поддержать.
В душе у нее зазвенели колокольчики, прямо как те, что у тройки коней, запряженных в сани Деда Мороза. Это был звук, говоривший о радости и других светлых чувствах, которые испытывала сейчас Лида.
— А Денис интересный мальчик, да? — Тут же продолжил Максим.
— Он просто чудо! — Подхватила Лида.
На оставшемся пути до дома они обсуждали мальчика с кубиками, да и дома все продолжали этот разговор.
Максим и Лида стали частыми гостями в детском доме №3. Но теперь они все больше времени проводили с Денисом. Они брали его гулять во дворе. Мальчик все время выглядел серьезным. Говорил не очень много, но при этом не был катастрофически стеснительным и зажатым, но его доверие явно нужно было заслужить. И супруги очень старались раскрыть перед мальчиком свою душу. Он очень им нравился, и им хотелось, чтобы чувства эти оказались взаимными.
— Скоро Новый год,— сказал Максим, когда они все вместе однажды прогуливались во дворе детского дома.— А тебе этот праздник нравится?
— Конечно, нравится! — закивал Денис головой.
— А что ты хочешь в подарок? Что попросишь у Дедушки Мороза? — продолжал интересоваться Максим.
— В подарок? — Денис хмыкнул.— Я чудо хочу.
— Чудо? — удивились Лида и Максим.
— Ну да, ведь в Новый год обязательно случаются чудеса. Вот и мне очень хочется чуда.
— Да, ты совершенно прав, поддержал Максим.— Какой же Новый год без чуда? Все это знают! Мы тоже каждый год ждем чуда.
— И как, чудеса приходят? — заинтересовался Денис.
— А как же! — заверил Максим.— Их только нужно уметь замечать.
— Угу,— кивнул Денис и улыбнулся.
Лида была в восторге от этого мальчика. Она никак не могла наговориться с ним и наглядеться на него. Каждый раз она с сожалением покидала детский дом. Эти встречи стали ей просто необходимы. Она очень к Денису привязалась.
Они с Максимом очень хотели усыновить этого ребенка. Только не знали, захочется ли ему быть с ними. Поэтому в очередную их встречу, они завели с ним этот разговор.
— Денис, а ты хотел бы уехать из детского дома? — Это Лидины слова.
— Куда? — Спросил мальчик.
— Ну, хотел бы ты, чтобы у тебя появилась настоящая семья, папа и мама, которые увезли бы тебя отсюда. Ты бы стал жить с ними.
Денис серьезно посмотрел на них и сказал:
— Конечно, хочу. Все ребята хотят этого. Но нам нельзя об этом говорить. Воспитатели рассказывали, что когда-нибудь наши родители обязательно нас найдут и заберут отсюда. А пока мы должны хорошо себя вести. Мы все ждем, когда нас заберут родители.
У Лиды навернулись слезы. А Максим присел на корточки, чтобы быть на уровне Дениса:
— Денис, ты хочешь поехать с нами? Мы родители, которые, наконец, тебя нашли и хотим, чтобы ты жил в нашей семье.
Денис кивнул. Даже не сказал ничего, просто кивнул.
Так все и решилось.
Наконец, все документы были оформлены. Дело близилось к Новому году. А Лида и Максим решили, что праздник они встретят дома, со своим сыном.
Последний разговор с заведующей был обстоятельным. Сегодня они официально стали родителями Дениса и уже собирались забрать его домой.
— Что ж, думаю вам все ясно,— закончила свою речь заведующая.— Очень надеюсь, что Денису будет у вас хорошо.
Они все встали и супруги пожали ей руку.
— Поздравляю, вы стали мамой,— сказала она Лиде. Максима она тоже поздравила с тем, что он стал папой, но Лида этого уже практически не слышала. После этой простой фразы про маму, у нее зазвенело в ушах. Да, теперь она мама. Приятное тепло разлилось по телу, и она уже думала о том, как сейчас увидит Дениса.
Лида и Максим забрали Дениса домой, они показали ему его комнату. Помогли разобрать привезенные с собой вещи. Лида понимала, что впереди еще долгий период привыкания друг к другу. И еще не скоро он будет относиться к ним как к родителям. Но они не собирались его торопить.
— Ты можешь называть нас тетя Лида и дядя Максим,— сказала она мальчику.— В этом нет ничего страшного.
— Хорошо, согласился Денис.
Постепенно Денис привыкал своему новому дому и к своим родителям. Так же он узнал, что у него теперь появились бабушки и дедушки, а еще тетя. Он стал больше улыбаться. С радостью ходил с родителями по магазинам, где сначала ему купили новую одежду и другие разные необходимые вещи, а затем они вместе выбирали подарки родным и близким, а потом покупали продукты для праздничного стола.
Новый год они решили встречать дома втроем. Денису нужно было хотя бы с родителями познакомиться ближе, незачем окружать его вниманием сразу со всех сторон. Большое количество родственников и друзей сразу только напугает его и запутает.
Денис с большим удовольствием ставил и украшал с Максимом искусственную елку, развешивал мишуру и гирлянды по всему дому, помогал накрывать на стол…
За окном пошел обильный снег. Денис прилип к окну.
— Красиво! — восхитился он.
Во многих окнах горели гирлянды, у кого-то было видно, как сверкает елка. Настроение все это создавало, что надо.
Телевизор был включен и на фоне всех новогодних приготовлений слышались знакомые реплики из «Иронии судьбы».
Денис смеялся, прыгал по квартире в ковбойской шляпе, которую ему подарили, верхом на венике, заменявшем ему лошадь. Зрелище это было уморительное, так что Максим и Лида тоже не могли сдержать улыбки…
И вот, когда все уже было готово к волшебному моменту встречи Нового года, они расселись за праздничным столом. Совсем скоро пробьют куранты, и в новый год вступит одна семья, где совсем недавно появилось 4-х летнее чудо, покорившее сердца Лиды и Максима. Конечно же, новогодние чудеса случаются! Разве это не одно из них? Вы только посмотрите на счастливую мордашку этого мальчика. Он уплетает оливье, лопочет про санки, на которых ему обещали кататься всей семьей с горы. Родители тоже сияют не хуже собственной елки, под которой они, кстати, вскоре обнаружили целый мешок подарков.
— Вот это да! — кажется, Денис был в восторге. Вот и еще одно чудо. Чудо для мальчика, которое он так хотел. А может он говорил не о нем, а об этих двух обнявшихся людях, наблюдавших за ним с широкой улыбкой. Может именно они — его новогоднее чудо?
Нет, он не стал называть их родителями в эту волшебную ночь. Слишком мало времени прошло. Но с ним сейчас были люди, которые постепенно становились его семьей. И он был счастлив. Денис определил это совершенно точно. У них в детском доме каждый мальчишка и каждая девчонка знали, что такое счастье. Когда у тебя есть семья… Это и есть счастье!..
Ирина АНДРЕЕВА
(г. Тюмень)
 Ирина Катова (Андреева) — автор 7-ми книг деревенской прозы, живет в пригороде Тюмени. Родилась в Абатском р-не Тюменской области в отдаленном селе за увалом. Образование строительное. Работала мастером на стройке, художником-оформителем, секретарем. Окончила при Институте культуры курсы по флористике. Принимала активное участие в оформлении с/х выставок районного и областного масштаба, выставок в Москве и Екатеринбурге. Литературным творчеством начала заниматься с 30-ти лет. Публиковалась в газетах. В 2010 г. вышла ее первая книга «Знак бесконечности». Свои книги иллюстрирует сама. Член СПР.
Ирина Катова (Андреева) — автор 7-ми книг деревенской прозы, живет в пригороде Тюмени. Родилась в Абатском р-не Тюменской области в отдаленном селе за увалом. Образование строительное. Работала мастером на стройке, художником-оформителем, секретарем. Окончила при Институте культуры курсы по флористике. Принимала активное участие в оформлении с/х выставок районного и областного масштаба, выставок в Москве и Екатеринбурге. Литературным творчеством начала заниматься с 30-ти лет. Публиковалась в газетах. В 2010 г. вышла ее первая книга «Знак бесконечности». Свои книги иллюстрирует сама. Член СПР.
НАСТОЯЩАЯ ПЕСНЯ
Невзрачный, тщедушный на вид мужичонка Витька Корявцев на войне не был, потому как родился в тридцать первом году. В сорок первом, едва ему десять лет исполнилось, началась война. Вот голоду Витек натерпелся. Может, потому и не вырос. Известное дело: прищипни молодое растение в точке роста, оно и развиваться не станет. Погибнуть не погибнет — захиреет и плода не даст. Так и Витькино военное поколение на самом корню голодом, холодом, непосильным трудом подрублено.
На вид Витьку под семьдесят лет, а на деле еще и шестидесяти нет. Внешность неброская. Бесцветные глаза, прокуренные зубы. На голове редкая седая растительность. Одни руки у Витька развитые — узловатые, жилистые, хваткие. Руки ведь не едой, физическим трудом развивают. И то сказать, досталось за жизнь Витькиным рукам и ногам тоже!
В сорок первом отец Витьки практически сразу был призван в действующую армию. Похоронку принесли в первую же военную зи-му — сложил Логин голову под Ржевом.
Остался Витька в семье за старшего. После него еще три рта ребятишек, мать, да бабка немощная. В двенадцать лет пришлось бросить школу. Пристроился Витек сначала в подмастерье на кирпичном заводике, что еще до войны обосновался в их рабочем поселке, где и Логин работал. На производстве этом, что подмастерью, что квалифицированному рабочему труд сахаром не казался. Оборудование примитивное: пять станков, которые и станками-то назвать можно с натяжкой. Устройство их простое: плоский металлический стол с углублением в форме кирпича, донышко корытца не прикреплено к ее стенкам. Под столом рычаг-педаль. Раствор укладывается в форму, разглаживается заподлицо с краями, мастер нажимает на педаль, кирпич-сырец выскакивает на донышке, как пирожное на подносе. Остается опрокинуть его на ребро и убрать на просушку. Все остальные процессы вручную: воду в чан таскать, песок, глину. Раствор месить вручную, а вернее сказать «вножную».
Производство кустарное, зато кирпич получается прочный, закаленный до звона. С началом войны потребность в таком кирпиче не отпала. Вглубь страны начали эвакуироваться военные заводы. Для устройства их фундамента нужен крепкий кирпич. Идет он и на доменные печи.
Таким образом, завод даже «укрупнили», до войны на нем было два станка, завезли еще три. Все пять работают без простоя. Только успевай месить раствор.
Как раз на эту операцию — месить в большом чане глиняное тесто и взяли Витьку. Это поначалу забавно и даже весело показалось — знай, топчи, переступай с ноги на ногу. Чан широкий, но низкий. Залезут в такое корыто человек пять-шесть ребятишек, охватятся по плечам руками и айда по кругу! Только за день так ухлопывались голодные ребятишки, хоть за уши оттуда добывай. Летом еще куда ни шло: вода, глина не такие холодные. А весной, осенью? Взрослые мужики до войны глину месили в болотных сапогах. Мальчишку-заморыша в такой сапог хоть с головой посади, какой там замес? Вот и студили ребятишки босые ноги, простывали на сквозняках — кирпич-сырец сушится в сараях с окнами-фрамугами.
Основное население небольшого уральского поселка трудилось на торфоразработках. Для проживания рабочих в поселке было построено пять десятиквартирных бараков с сарайками-прилепышами, да несколько частных домишек, контора торфяников, где выписывались наряды и по кирпичному заводику.
Витькина семья жила в одном из бараков. К слову сказать: это рассчитан барак был на десять семей, а проживало в них люду, как селедки в бочке.
До войны на кирпичном заводике мастером был Логин — отец Витьки. Теперь командовать поставили одноногого Мирона — участника Гражданской войны. На месте отсутствующей по колено ноги Мирон носил деревянный конусообразный скрипучий протез, который больше смахивал на узкую кадушку, в коих крестьяне сбивают механическим способом сливочное масло.
В обязанности мастера входило организовать рабочий процесс, определить качество глины, где начать новый карьер по ее добыче. В распоряжении Мирона была ледащая лошаденка, на которой он подвозил глину и песок к заводику. Остальная рабочая сила — бабы. Одна из них, старая дева Марьяна, молчаливая женщина с беспристрастным выражением лица. Марьяна от природы страдала тугоухостью, может оттого была замкнутой и замуж не вышла. В работе Марьяна ломила как лошадь, немало выручая мастера-бригадира. А еще чисто по-женски жалела старика, предлагала иногда: «Собирай, Мирон Пименыч, узелок с грязными рубахами, портками, вечер постираю на речке».
Был Мирон вдовый, неприкаянный человек. Жалел и подбадривал ребятишек: «С токою-то бригадою мы к осени полную печь загрузим!» Делился с детьми скудными пайками: то корочку хлеба сунет, то вареную в мундире картофелину. Подкармливала мальчишек и Марьяна. За это дети привязались к женщине, как к матери. В летнее время Марьяна носила на голове кумачево-красную косынку. При скудном, почти нищенском прозябании эта косынка казалась роскошью. Витька еще издалека высматривал красную «голову», ждал, не принесет ли Марьяна гостинца. Иногда раздумывал наедине: «Отчего тетку Марьяну никто взамуж не взял? Разве же она некрасивая? Особливо как красную косынку наденет, куды с добром!» Однажды он даже у матери поинтересовался: «Мамка, отчего тетку Марьяну никто не сосватал? Она очень даже приличная! Я бы женился, кабы большой был». Вечно вымотанная физической работой мать отмахнулась небрежно: «Не знаю, не приглядывалась. От ты, жаних еще нашелся!»
Со временем образ Марьяны в Витькиных глазах станет женским идеалом: добрая, заботливая, трудолюбивая, ни с кем не спорит, делает свое дело.
Загрузив печь, приступали к заготовке дров. Население поселка отапливалось торфяными брикетами, вывороченными на разработках корягами. Ближайший леспромхоз снабжал кирпичный заводик пнями с раскорчевок, срезкой.
Зимой кирпич обжигали. Эту операцию работники заводика любили более других. Не такой тяжкий труд. Главное, поддерживать в топках печи тепловой режим, вовремя подбросить, промешать головешки. Устье в печи не одно, а несколько по всему периметру для равномерного обжига. Дежурили посменно группами. Ребятишки любили ночную смену, старались записаться в нее с теткой Марьяной. Жарко протопив сторожку (дома-то тепла вволю не бывало), мальчишки укладывались на нары, при сальном фитиле травили байки-страшилки или уговаривали Марьяну рассказать какую-нибудь историю.
Марьяна строго следила за печью, сама не смыкала глаз, тормошила мальчишек: «Эй, воины, вставайте, пойдем угли мешать, подбрасывать!» Иногда жалела закемаривших «мужичков» и управлялась у печи одна. Не могли они ведать, как нередко вернувшись в избушку, Марьяна подолгу рассматривала обносившихся голодных работников, смахивала набежавшую слезу. Протяжно вздыхала, пристраивалась на скамейку напротив, отдыхала, дремала вполглаза, чтобы полчаса спустя опять шуровать у печи длинной кочергой. Мальчишки не оставались в долгу у доброй женщины и при заготовке, распиловке, рубке дров старались подставить свое плечо, помочь ей.
Мужиков с войны в поселок вернулось мало. Так в барак, где проживала Витькина семья, возвратилось всего три воина. Один из них Гоша Новоселов — увечным обрубком в полчеловека. Говорили, что подорвался Гоша на фугасном снаряде. Ноги у него были ампутированы по тазобедренные суставы, таким образом, казалось, что сидит он прямо на животе. Лицо, иссеченное осколками, увы, тоже не красило героя. До войны Гоша не успел обзавестись семьей, а теперь и подавно невесты для инвалида не находилось. Проживал он со старенькой матерью. Передвигаться Гоша приловчился на низкой самодельной доске с колесиками, опираясь на руки в грубых рукавицах. По вечерам инвалид выбирался во двор и окруженный мальчишками-зеваками пилил на гармошке. Про войну он рассказывать не любил, всю свою боль выплескивал в музыке.
Играл любую мелодию, подбирая на слух. Но самой любимой его песней была «На позицию девушка провожала бойца».
Все чаще Гоша прикладывался к рюмочке, а в подпитии рассуждал о наболевшем: «Эх, вот до войны у меня была краля, не то ли что сейчас бабы пошли, взглянуть не на кого!» Если какой-либо мужик его одергивал: «Кто хвалится, тот с горы свалится!», Гоша как-то сразу обмякал телом: «Я уж свалился, дальше некуда!» Сердобольные женщины перешептывались: «Хосподи, Боже мой, «взглянуть не на кого», кто бы на тебя посмотрел?! Обкромсала война, там, поди, и мужского-то ничего не осталось». Сочувствовал Гоше одноногий Мирон:
— Э-эх, парень, скрутило тебя! Думал я ране, что больно несчастлив на своей культе, а тебе-то хлеще моего досталося! А все через эти войны проклятые.
Будь у Гоши другой характер, мог бы на счетовода, писаря или на сапожника, например, выучиться — руки, голова целы. Но слабый человек все больше спивался. Манера его игры на гармошке со временем стала заунывной, какую бы мелодию он ни заводил, всякая наводила тоску, как ноющая зубная боль бередила душу. Кто-то окрестил его «Гошей — Зубной болью», с тех пор так и пошло.
После смерти матери Гоше стало совсем тяжко. Жалких грошей по инвалидности не хватало даже на пропитание, не говоря уже о вине. Нередко он отправлялся на своей тележке в город, неизменно прихватив с собой гармонь. Взобраться в рейсовый автобус и выбраться из него помогали пассажиры. Пел на рыночной площади, просил милостыню. Часто его вылавливал милицейский патруль (попрошайничать было не положено), возвращал обратно в поселок, предупреждал о принятии более жестких мер.
С такого заработка Гоша приезжал трезвый и лишь в поселке позволял себе набраться. Но однажды он изменил своему правилу, явился вдрызг пьяный. Горько плакал во дворе дома, жаловался мужикам:
— Оне меня за кого держат? Крысы тыловые, волки позорные! Фуфайку задирали, ноги мои искали! Ищите! Под Москвой оне остались, краковяк пляшут! Мать вашу так! Низко я на доске сижу, а то бы надавал им в роговой отсек по-нашему — по-фронтовому!
С его слов сочувствующие поняли, что на рынок заступил наряд милиции из нового состава, который еще не знал инвалида-Гошу, вот и унизили фронтовика досмотром.
Как никогда надрывно плакала в тот вечер Гошина гармошка. Трудно прощалась девушка с бойцом на ступеньках крыльца.
Местные дворовые ребятишки иногда учились у Гоши пиликать на гармони. Лучше всех эту науку усвоил Витька Корявцев. Особенно хорошо у него выходила любимая песня Гоши.
После войны город стал усиленно развиваться, отстраиваться. Решено было построить в поселке добротный кирпичный завод с новым оборудованием, механизированным процессом, завод ЖБИ. Это привело к притоку в поселок новой рабочей силы. Начали строить жилье.
Прошли годы, выросли дети военного поколения. Однажды в зимнюю пору замерз подвыпивший гармонист Гоша Зубная боль, несколько метров не дотянул до своего дома. Помаявшись болезнью легких (может, у кирпичной печи опалила), ушла в мир иной Марьяна — старая дева. Витька Корявцев женился, привел жену в квартиру матери. Вскоре и мать умерла.
Три аварийных барака снесли. Прямо напротив Витькиного построили два двухэтажных благоустроенных дома из силикатного кирпича. И хотя барак еще стоял, его списали с баланса, жильцов из него постепенно расселили.
Витькина жена обила все пороги, их семья тоже вселилась в новый дом. Но за нехваткой жилья люди селились в освободившийся барак самовольно, развалюху стали называть «нахаловкой». Лишь квартира Гоши Зубная боль оставалась пустующей. Там давно провалились, прогнили половицы, покосились рамы, стекла в них лопнули и частично высыпались. В квартире часто собирались собутыльники, распивали, курили, балагурили.
- давно ушел с кирпичного заводика, переквалифицировался на стропальщика, работал в складе готовой продукции на заводе ЖБИ. Это с виду его профессия кажется простой: цепляй крюк, кричи «вира» да «майна». На деле много тонкостей надо знать. Как увязать детали, например, как уложить в штабель. В каком месте положено установить прокладки под них. Витька на этом поприще хороший специалист, опытные мастера не гнушаются его советом, подсказкой. С тех пор как на заводе ввели обязательные экзамены по допуску к работе, Витька, малограмотный мужичок, первый успешно сдает их, потому как подходит к вопросу чисто с практической стороны.
Детей у Корявцевых не случилось. Какое-то время супруги упрекали друг друга в бесплодии. Потом успокоились, но ключ к семейному счастью не нашли. Нелька — жена, вдарилась в накопительство. Витьку же мало чего нужно от жизни. Зимой ходит в ватнике, кирзовых сапогах, цигейковой шапке. Летом в пир и в мир — в линялой спецовке, старенькой кепченке, стоптанных башмаках. В семейной жизни он давно разочаровался. Нелька, крикливая, вздорная баба всю печенку проела, все ей денег мало. Иногда сэкономив на бутылочку «вермута», Витька посещал квартиру Гоши Зубная боль. Ходить туда предпочитал в одиночку, чтобы посидеть, подумать без суеты. Обязательно снимал кепку, раскрывал створку окна. Первую стопку выпивал за помин души хозяина, вторую — для храбрости, третью — для настроения и разворачивал мехи старенькой гармони. Для начала всегда звучала любимая песня Гоши. Витек вел ее спокойно и уверенно, но по мере того, как хмелел, всякая начатая мелодия сменялась жалобным заунывным мотивом, напоминающим игру бывшего хозяина квартиры. Каков наставник, таков и ученик.
Когда этот «концерт» вконец выматывал нервы и терпение Нельки, она распахивала створки окна в доме напротив и через двор кричала:
— Хоть бы одну настоящую песню сыграл, достало твое «пили-пили — не допили»!
Витек подходил к окну, демонстративно рвал на груди рубаху, обнажая впалую грудь под растянутой синей майкой, вскакивал на подоконник с гармошкой, свешивал во двор ноги и громко возглашал:
— Ах, тебе настоящую?! Так послушай.— Он рьяно растягивал мехи, громко, с бравадой выводил:
— На позицию девушка провожала бойца.
Нелька высовывалась из окна, смачно сплевывала во двор:
— Тьфу ты, малохольный, со своей девушкой!
Витек невозмутимо продолжал:
— На окошке на девичьем все горел огонек.
От усердия на его черепе вздувались синие вены, на скулах ходили желваки, острый кадык обозначался еще отчетливее. В проигрышах гармонист приглушал мелодию, громко выкрикивал:
— И-эх, была у меня во время войны одна краля в красной косыночке, не тебе чета! Што ты в музыке понимаешь?! Не те сейчас бабы пошли, взглянуть не на кого! — Еще яростнее рвал гармонь: — Но знакомую улицу позабыть он не смог. Где ж ты милая девушка?
Нелька молча захлопывала окно и даже задергивала шторы.
Час спустя из Гошиной квартиры опять слышалась протяжная заунывная мелодия. Набожные старушки, кои еще помнили безногого Гошу, проходя мимо, суеверно крестились: «Господи, помилуй раба божьего Георгия!»
Татьяна РОГОЖИНА
(г. Тула)
 Окончила экономический институт. Работала инженером, экономистом. В настоящее время — предприниматель. Книги автора можно купить в интернет-магазинах Либрадор, ЛитРес, Амазон, Озон и других.
Окончила экономический институт. Работала инженером, экономистом. В настоящее время — предприниматель. Книги автора можно купить в интернет-магазинах Либрадор, ЛитРес, Амазон, Озон и других.
ФИЛИМОНОВСКАЯ ИРУШКА
Одоев — обычный провинциальный городок с плохими дорогами и неспешным течением жизни. Старые дома с выщербленными кирпичами, деревянные покосившиеся заборы и наверняка где-то есть обязательная для таких мест большая лужа.
Возле одноэтажного дома, часть окон которого заложена кирпичом, но украшенного вывеской с амбициозной надписью «Континент», бродят задумчивые куры и тихо кружится пыль, поднятая пробегающей мимо собакой. На главной площади на фоне полуразрушенной церкви стоит, весь в белом, Ленин с простертой в светлое будущее рукой — привычный атрибут прошлого века.
Светлое будущее, однако, пока не наступило. Но ожидается. Наверное. Ведь Одоев городок не простой, а с таким богатым прошлым, что никакие потрясения не смогли уничтожить тягу русского народа к прекрасному, то есть к творчеству.
Одоевский край знаменит своей филимоновской игрушкой — по названию деревушки Филимоново, где предположительно этот промысел и зародился более семи сот лет назад.
Поклоняясь языческим богам, жили тогда древние славяне в согласии с природными ритмами, когда смена времен года, восходы и заходы солнца, изменения фаз луны определяли вид их деятельности.
Осенью, когда заканчивались работы в полях и на огородах, селяне заготавливали глину, выкапывая для этого глубокие колодцы (чем глубже, тем песка меньше), чтобы обеспечить свою семью сырьем до самой весны.
Глина под Одоевом — особенная, называется синика, потому как цвет имеет иссиня-черный. Синика такая вязкая и тягучая, что фигурка лепится целиком, когда глина подсыхает и на ней появляются трещинки, их разглаживают влажной рукой, отчего туловище сужается и вытягивается, приобретая изящный удлиненный вид.
Всю долгую зиму крестьянки, переделав дела по хозяйству, лепили игрушки, призвав в помощь детей, чаще всего девочек. Работали весело, с шутками-прибаутками, да и без песен ни одно дело не обходилось, поэтому глиняные «забавки» получались добрые и смешные. Готовые поделки ставили на полки тут же в доме — пусть себе сушатся до самой весны. И чем их будет больше, тем лучше, ведь стоили свистульки дешево.
Когда приходила весна, то в специальных печах, что строили у реки, игрушки обжигали — синяя глина приобретала цвет кремово-белый, удобный для росписи, которая делалась гусиным или утиным пером, краска с перышка ложилась чисто и ровно, не оставляя ворсинок. Эту технику сохранили и современные мастера. Правда красители теперь предпочитают современные, более стойкие и яркие. Тогда же в ход шли растения: сок свеклы, моркови, зелени смешивали с яичным белком, получая из них основные цвета — желтый, красный, зеленый, иногда добавляли синий и фиолетовый, если задумка того требовала.
Зашумели летом на базарной площади пестрые ярмарки — самое время везти свои поделки на продажу, чтобы радовать народ переливчатыми трелями свистулек, яркими красками и разнообразием фигурок. Тут и пышные барыни с детьми и птицами под мышкой, и толстоногие кавалеры, и лихие солдаты, и кони с всадниками, и озорные петушки, и олени, и медведи и даже миниатюрные карусели...
Особенно барыни хороши! Талии у них тонкие, юбки колоколом, а на голове кокетливые шляпки. Юбки и передники веселят глаз чередованием разноцветных узоров из причудливых полосок, кружков, треугольников и елочек. А вот лица лишь намечены: короткие мазки и точки изображают брови, глаза и рот. Зато можно придумать для них любой нрав и манеры.
Но, несмотря на кажущуюся наивность, в игрушках заложен глубокий смысл. К примеру, женская фигурка — образ продолжения рода; медведь — предвестник пробуждения природы, символ могущества; а конь служит Солнцу, свет которого дает благодатную энергию для всего живого. По старинному поверью символы в узорах несут духовную силу, способную защитить от зла и несправедливости, опасности и болезни, то есть глиняные поделки являются еще и оберегами.
Удивительно, но древняя символика орнаментов до конца и не расшифрована. Есть предположение, что три окружности, составляющие основу росписи, означают ни много ни мало, а Время, Пространство и Вечную материю.
Привычный для нас круг (кольцо, колесо) не что иное, как универсальный закон Вечности, символ непрерывности, цельности и первоначального совершенства. Елочка — древняя модель Вселенной или дерево жизни, напоминание о том, что мир един, в нем для каждого существа, предмета или явления имеется свое место. Треугольник — знак огненной стихии и одновременно человека. Крест — символ жизни и вечности. Волнистая линия — вода, мировой океан, что символизирует начало жизни, умение приспособиться к обстоятельствам. Спираль посвящена мудрости…
Обо всем этом можно узнать в музее филимоновской игрушки, что находится в небольшом двухэтажном доме на тихой улочке Одоева. Помимо постоянной экспозиции здесь имеется еще и сувенирная лавка, где можно приобрести в подарок свистульку-оберег или поучаствовать в мастер-классе, чтобы изучить приемы «глиняного дела» — вдруг пригодится.
Слепить фигурку не сложно. Барыня-красавица, между прочим — хранительница очага, делается примерно так: сначала катаем между ладонями шар, потом надеваем его на указательный палец и вытягиваем, углубляем таким образом, чтобы получилась юбка в виде колокола. Все. С пальца снимаем и — на дощечку, теперь формируем туловище и голову. Руки вытягиваем из середины фигурки — хорошие получились, ухватистые. Дальше — шляпка с высокой тульей. Пока фигурка сохнет, лепим курицу. Настоящая барыня обязательно должна быть с курицей под мышкой или с младенцем. Таковы правила.
Кстати, птица — тоже символ, знак воскресения природы, пробуждения земли, рассвета, хорошего урожая и счастливой семьи.
Пять дней барыню разглаживаем, сушим и в печь — для обжига. Осталось только раскрасить ее гусиным перышком, не спеша и по всем правилам.
Готова красавица!
Теперь и свистнуть можно, чтобы нечистую силу отпугнуть, и на видное место поставить — пусть домашний очаг бережет, защищает от зла и несправедливости. Нам этого сейчас так не хватает.
Геннадий МАРКИН
(г. Щекино Тульской области)
 Член Союза писателей России, лауреат литературной премии имени Н.С. Лескова «Левша» (2009 г. ), заместитель гл. редактора — зав. отделом прозы всероссийского ордена Г.Р. Державина журнала «Приокские зори».
Член Союза писателей России, лауреат литературной премии имени Н.С. Лескова «Левша» (2009 г. ), заместитель гл. редактора — зав. отделом прозы всероссийского ордена Г.Р. Державина журнала «Приокские зори».
ПО СЛЕДУ «БЕСА»
Этот случай, о котором я собираюсь рассказать, к герою моих публикаций полицейскому уряднику Сидорову никакого отношения не имел, но к деятельности крапивенской уездной полиции имел самое непосредственное. Итак, представьте себе раннее январское воскресное утро 1846 года. На еще темном утреннем небе, гася яркие огни ночных звезд, красной краской заполыхал утренний рассвет. Пропахшие прогорклыми запахами от дымящихся печных труб тихие крапивенские улицы еще продолжали оставаться во власти сна, когда их тишину нарушили своими колокольными перезвонами крапивенские церкви, оповещая жителей о начале заутренней службы.
В Архангело-Михайловской церкви прихожан было много, а потому на еще одного вошедшего в церковь прихожанина никто не обратил никакого внимания. Высокого роста и широкоплечий, в черном подпоясанном овчинном тулупе, он снял шапку, отряхнул рукавицами свои валенки от снега, а затем провел рукой по бороде и усам, отирая их от налипших в виде сосулек маленьких капелек. Постояв некоторое время у входа и осмотревшись по сторонам, он, опираясь о палку и прихрамывая на одну ногу, тяжелой поступью пошел сквозь стоявших вплотную друг к другу людей, при этом задевая и толкая их своими плечами. Недалеко от клироса остановился на мгновение, а затем под негромкие и мягкие голоса певчих, шагнул к Алтарю.
Священник отец Арсений, громко произнося слова молитвы, стоял у Царских врат и уже собирался распахнуть их и выйти к прихожанам, как в это самое время в расположенную рядом с вратами дверь вошел незнакомый ему человек. Отец Арсений замер от неожиданности и с удивлением взглянул на вошедшего.
— Ты меня знаешь? — грубым тоном, спросил вошедший.
— Нет, не знаю,— прекратив читать молитву, спокойно ответил священник.
— Я — Ермил,— назвался незнакомец.
— Чего-то хочешь от меня, Ермил? — продолжая внешне оставаться спокойным, спросил отец Арсений, хотя спокойствие ему давалось нелегко. Он интуитивно почувствовал опасность для себя, которая исходила от вошедшего в Алтарь Ермила.
Ермил не ответил. Он, сверкая глазами, злобным взглядом смотрел на священника, и сжимавшие рукоять палки его пальцы от напряжения побелели. Нехорошие предчувствия еще с большей силой вкрались в душу и сердце священника. В это время с противоположной стороны иконостаса послышались голоса, и в Алтарь вошел церковный староста Андриан.
— А ну, выдь отсель, неча тебе здеся делать! — приказал он, но Ермил на его слова никак не отреагировал, лишь повернулся неуклюже и косым взглядом на него взглянул.— Выдь из Алтаря сказано тебе! — вновь потребовал Андриан, но Ермил в ответ замахнулся на него палкой.
— Молчи, собака поповская! А не то я тебя пришибу! — продолжая злобно сверкать глазами, пригрозил Ермил.
Однако Андриан не испугался. Он ловко одной рукой перехватил занесенную над ним руку с палкой, а другой схватил Ермила за подпоясину и стал вытаскивать из Алтаря, но тот не поддавался. Он отмахнулся от Андриана и, взбрыкнув ногой, попытался пнуть его, но Андриан увернулся и, схватив Ермила за волосы, вывел его из Алтаря. Заревев от боли, Ермил в бешеной ярости вырвался из рук Андриана, оставив зажатым в его кулаке пук своих волос, после чего с размаха ударил его палкой.
— Вот тебе, собака! Вот тебе! — Ермил еще раз со страшной силой ударил Андриана палкой по спине.— Запомнишь надолго Федота! — выкрикнул он и, вновь взмахнув палкой, со страшной силой обрушил ее на висевшую перед иконой Казанской Божией Матери лампаду. Со звоном разлетелось битое стекло, и из поврежденной лампады, словно кровь, медленно потекло лампадное масло, роняя свои вязкие капли на истоптанный десятками ног грязный пол.
Увидев разъяренного Ермила-Федота, стоявшие рядом с ним прихожане в ужасе шарахнулись в сторону, певчие прекратили пение, и по храму единым стоном прокатилась волна негодования. На помощь Андриану бросились дьяк Андрей, пономарь Петр и еще несколько прихожан-мужчин. Они вытолкали Ермила на улицу и попытались сбить его с ног, с тем намерением, чтобы связать его и сдать полиции, но сделать это им не удалось. Ермил-Федот отчаянно отбивался от них палкой, а затем, заревев по-звериному, растолкал всех в разные стороны и, прихрамывая, подбежал к своей лошади, быстро отвязал ее от коновязи, несмотря на хромоту, ловко запрыгнул в сани и умчался прочь.
— Ох и силен, шельма! Будто бес в нем сидит! — воскликнул пономарь Петр.
— Он и есть — бес! Слыхал, как заревел-то? Нешто человеку так свойственно, как зверю, реветь? — тяжело дыша, проговорил Андриан и, взяв в руку горсть снега, вытер им свое лицо.
Спустя четверть часа в церкви была полиция. Осмотрев место преступления, и описав подробно в протоколе разбитую лампаду, они приступили к опросу очевидцев.
В дореволюционный период России преступления, совершенные против церкви и вероисповедания, так же как и преступления, совершаемые против существовавшего строя, а равносильно подрывавшее экономические устои фальшивомонетничество, относились к разряду преступлений особой важности, и к их расследованию нередко подключались жандармы, а сам ход расследования таких преступлений, находился на особом контроле лично у губернатора. Поэтому для раскрытия этого преступления и розыска преступника были привлечены лучшие силы крапивенской полиции.
Из протокола допроса церковного старосты Андриана, цитирую: «Староста Архангело-Михайловской церкви казенный крестьянин Московской слободы Андреян Тимофеев 28 января во время церковной службы он увидел, как неизвестный ему крестьянин самовольно вошел в Алтарь. Он вошел следом и попросил того неизвестного выйти из Алтаря, но тот стал его оскорблять недостойными и матерными словами, а затем ударил палкою. Того крестьянина он в церкви раньше не видел и как его зовут он не знает. Назывался то Ермилом, то Федотом».
Допрошенные дьяк Андрей Супроцкий и пономарь Петр Веслов так же показали, что крестьянина, нарушившего тишину и порядок в церкви, они не знают и раньше его никогда не видели. Опрос находившихся на тот момент в церкви прихожан так же не дал никаких положительных результатов и расследование, как сейчас сказали бы, зашло в тупик, и возможно из того тупика не вышло, если бы не случай. В тот же день 28 января в крапивенскую полицию поступило прошение крапивенского мещанина Владимира Белобородова об избиении его чиновником Чизенковым (имя и отчество в прошении не указано. Авт.). По этому заявлению разбирался квартальный надзиратель Адамов. Он-то неожиданно и получил сведения о преступлении, совершенном в Архангело-Михайловской церкви. В поданном на имя полицейского исправника рапорте он указал следующее: «… в ходе разбирательства жалобы мною установлено, что чиновник Чизенков нанес оскорбления мещанину Белобородову, отстаивая честь своей знакомой Анны Тепловой, которая во время ее опроса высказала претензию, что лучше бы полиция приняла меры к одоевскому крестьянину, разбившему в церкви лампаду, чем притесняет честного человека Чизенкова».
Анну допросили в тот же день. Из протокола допроса, цитирую: «Дворянка канцелярийша крапивенского уездного казначейства Анна Матвеевна Теплова 28 января находилась в Архангело-Михайлов-ской церкви на утренней службе вместе со своею матерью. Во время службы одоевский крестьянин по имени Федот вошел в Алтарь, а затем палкой ударил сторожа церкви и разбил лампаду у иконы Божией Матери. Того Федота она видела в одоевском казначействе, когда приезжала туда по казначейским делам».
В одоевское уездное казначейство крапивенские полицейские выехали утром следующего дня, а уже в полдень нарушитель тишины и спокойствия давал признательные показания. Цитирую: «Крепостной крестьянин господина Соловьева села Вышина (возможно Вешино или Вяшино, запись неразборчива. Авт.) одоевского уезда Федот Савельев показал, что 28 января он был в Крапивне в Архангело-Михайловской церкви. Он увидел у образа Казанской иконы Божией Матери маленький огарок свечи догорает и хотел его потушить. В это время неизвестный ему крестьянин схватил его за волосы и потащил из церкви вон. Тащил его мимо стола, к оному был приставлен фонарь, и он тулупом своим за оный зацепил и оный разбился, после чего тот крестьянин вместе с другими крестьянами вытащили его за волосы на паперть. Он три раза ударил их палкою, чтобы они его не трогали, а он в то самое время хотел вернуться в церковь за своими рукавицами».
Вот такие показания дал задержанный крестьянин Федот Савельев. Однако, принимая во внимание показания свидетелей, крапивенские полицейские не могли признать его показания правдивыми, и 2 февраля 1846 года крапивенский уездный исправник на имя тульского губернатора направил донесение следующего содержания, цитирую основную и заключительную части донесения с сохранением стиля и орфографии:
«Вашему превосходительству честь имею донести, что минувшего генваря 28 числа оного года города Крапивны священник Архангело—Михайловской церкви Арсений Михайлов Успенский в отношении присланных вверенную мне городскую полицию изъяснил, что 28 числа того же месяца неизвестно чей человек по имени себя объявивший то Ермилом то Федотом во время священнослужения в упомянутой церкви непонятно зачем зашел в Алтарь, а затем церковного старосту ругал непристойными словами и палкой своей намеренно расшиб светильник. (…) Расследование данного дела имело быть в непродолжительном времени и отослано на законное разсмотрение и определения в Крапивенский уездный суд. Крапивенский уездный исправник». (Подпись исправника неразборчива. Авт.)
Надо полагать, что за умелые и оперативные действия при раскрытии этого особо опасного преступления, Тульский губернатор поощрил всех крапивенских полицейских, а Тульское управление духовных дел… впрочем, это уже совершенно другая история.
Ольга БОРИСОВА
(г. Самара)
 Поэт, переводчик. Автор 4-х поэтических сборников Переводит с болгарского, французского, английского, финского и чешского языков. Победитель и призер международных поэтических конкурсов и фестивалей. Лауреат премии «Славянские традиции». Удостоена почетного знака «Писательское Братство», стипендиат Минкультуры РФ, с присвоением звания «Мастер». Неоднократно побеждала в конкурсах переводов с болгарского и французского языков. Публикуется в российских и зарубежных журналах. Ее стихи переведены на иностранные языки. Член Российского Союза профессиональных литераторов, (руководитель Самарской региональной организации), гл. редактор литературно-художественного альманаха «Параллели». Член ЛИТО «Точки» при Совете по прозе СПР.
Поэт, переводчик. Автор 4-х поэтических сборников Переводит с болгарского, французского, английского, финского и чешского языков. Победитель и призер международных поэтических конкурсов и фестивалей. Лауреат премии «Славянские традиции». Удостоена почетного знака «Писательское Братство», стипендиат Минкультуры РФ, с присвоением звания «Мастер». Неоднократно побеждала в конкурсах переводов с болгарского и французского языков. Публикуется в российских и зарубежных журналах. Ее стихи переведены на иностранные языки. Член Российского Союза профессиональных литераторов, (руководитель Самарской региональной организации), гл. редактор литературно-художественного альманаха «Параллели». Член ЛИТО «Точки» при Совете по прозе СПР.
БЕЛЫЙ ПЛАТОК
Танюша проснулась рано. За окном рассветало, но в комнате было еще темно. В открытую форточку влетал свежий утренний ветерок. Он колыхал нежную тонкую занавеску, и она таинственно шелестела. Таня сладко потянулась и посмотрела на часы. «Полшестого… Какая рань»,— подумала она, но спать больше не хотелось. Таня повернулась на бок и посмотрела на мужа. Алексей крепко спал, засунув руки под подушку. «Исхудал совсем. Дети еще не знают, что папка прилетел. Вот радости будет!»
Ее муж — военный летчик, по долгу службы часто улетал в длительные командировки. Танюшка любила, когда Алешка возвращался домой. Статный и подтянутый, в военной форме, которая ему так шла, с цветами и подарками он шумно влетал в двери и, схватив всех в охапку, крепко прижимал к груди. Танюшка предчувствовала, когда он вернется. Вот и вчера она уже знала, что муж скоро будет дома. Приготовив ужин и уложив детей спать, села к темному окну и, не включая свет, стала ждать. Тревожные мысли лезли в голову, слезы катились из ее больших серых глаз. Заслышав шаги на лестничной площадке, она вскакивала со стула и бежала в коридор, а затем подавленная возвращалась на свой прежний пост возле окна и снова ждала. И вот поворот ключа в замочной скважине, щелканье замка… И нежные объятья мужа…
Таня поцеловала спящего супруга и тихонько вышла из спальни.
На цыпочках подошла к двери детской комнаты и, убедившись, что мальчишки спят, пошла на кухню.
Сварив любимый крепкий кофе, Танюшка наслаждалась его ароматом. Отпивая маленькими глотками терпкий напиток из фарфоровой чашечки, она смотрела в окно. Сквозь стекла сочился бледный свет и, вытесняя мрак, заполнял все пространство комнаты. Новый теплый весенний день, обещавший радость и благополучие, вступал в свои права.
Алешка, подкравшись незаметно, обнял ее за плечи.
— Ну, что Танюшка, какие у нас на сегодня планы? — весело спросил он.
— Давай с детьми сходим в старый городской парк. Они давно уже просятся на детскую площадку. А затем зайдем к кафе «Сказка» и…
— И купим торт «Прагу»,— засмеялся Алексей,— сладкоежка ты моя!
— И дома заварим вкусный чай и все вместе съедим торт,— улыбаясь, добавила Танюша.
Дом просыпался. На верхнем этаже кто-то громко хлопнул дверью. Этажом ниже на кухне загремела посудой соседка. Скрипнула дверь детской и со словами: «Папка приехал!» на кухню ворвался заспанный и взъерошенный Андрей. Ему уже шел одиннадцатый год. Темноволосый, худой и высокий, он радостно прыгнул прямо в объятия отца. Следом, громко шлепая босыми ногами, прибежал Петенька, четырехлетний пухленький малыш. Отец обнял детей, крепко прижал их к груди.
— Ну что, орлы, как вы вели себя, пока меня не было дома? Мамку слушались?
Андрей усмехнулся и опустил глаза, а Петенька, качая утвердительно белокурой головкой, пролепетал:
— Слу-шались. Да, мам? — и, не дожидаясь ответа, спросил,— пап, а ты не улетишь?
— Нет, сынок! Сегодня я буду дома, и мы все вместе пойдем в парк.
— Ура! — закричал Андрей.
— У-ла! — вторил Петя.
Ближе к обеду нарядные и веселые они вышли из дома. День выдался теплым, ярко светило солнце, и Танюшка распахнула плащик, из-под которого виднелся кокетливо повязанный белый платочек. Алексей с обожанием посмотрел на супругу. В черном плащике, который ей так шел, белокурая, небольшого росточка, в лаковых лодочках на высокой шпильке, она казалась ему красавицей. Он любил ее. Любил свою семью, дом, замечательных мальчишек, в которых проявились их черты. Болтая о пустяках и держась за руки, они неторопливо шли по дорожке, ведущей через рынок в центральную часть небольшого военного городка. Они, молодые и счастливые, не обращали внимания ни на любопытные взгляды продавщиц, ни на прилавки с картошкой, морковкой и всякой снедью. Это был редкий воскресный день, когда они были все вместе.
Поравнявшись с киоском, стоящим у центральных ворот рынка, Танюша увидела бегущих в разные стороны людей. Она посмотрела вперед и остолбенела. Прямо перед ними с двух сторон, «стенка на стенку» шли темноволосые кавказские мужчины. Лица их были суровы и полны решимости, в руках поблескивали остро заточенные ножи. Расстояние между группами быстро сокращалось. Решение возникло молниеносно. Оттолкнув детей и мужа, она рванулась вперед и встала между враждующими. Торопливо развязав белый платок, Таня решительно кинула его под ноги мужчинам. Все оторопели. Высокие и сильные, они смотрели на нее, маленькую и смелую, с нескрываемым любопытством. Таня, собрав все свое мужество, пытаясь выиграть время, стала ходить между ними взад-вперед, не давая сойтись врукопашную. Остановившись посередине и, показывая рукой в сторону своих детей, которых крепко держал ошарашенный муж, спокойно произнесла: «Мужики, вам не стыдно? Посмотрите на их глазенки!» Наступила гробовая тишина, и в этой зловещей тишине Танин голос звучал тихо, спокойно, но строго: «Что, рынок поделить не смогли?! А вы подумали о своих матерях, женах, детях?!» И, не давая им опомниться, продолжала: «Неужели нужно перерезать друг другу глотки, чтобы о чем-то договориться?! Сядьте за стол переговоров, не хватайтесь за оружие! Научитесь решать мирно возникшие проблемы! Жизнь и так коротка, а вы…» Таня смело посмотрела на обе группы. Хорошо одетые мужчины, явно разных национальностей, исподлобья, но восторженно смотрели на нее, а в их взгляде Таня прочитала немой вопрос, мол, как ты, такая маленькая, осмелилась стать между сильными мужчинами? Они были явно в замешательстве. Екнуло сердце у Татьяны, и ей показалось, что время на миг остановилось. Она понимала, что именно сейчас будет принято решение. Внезапно с одной стороны вышел вперед мужчина в белой рубашке, средних лет, видимо старший в этой группе:
— Прости, сестра! Мы все поняли. Спасибо тебе! Я обещаю, разойдемся мирно!
Он с надеждой посмотрел на другую сторону.
С другой стороны также вышел мужчина чуть моложе, в дорогих джинсах и стильной голубой рубахе в крапинку:
— Спасибо, сестра! Прости!
Таня посмотрела им в глаза и увидела в них осознание того, что
могло произойти. Она решительно потребовала:
— Дайте мне слово горцев, что договоритесь!
И это слово последовало с двух сторон. Теперь она была уверена, что резни не будет. Они умеют держать свое слово. Танюша подошла к детям и мужу и, взяв их за руки, провела через людской коридор. Не оглядываясь, они продолжили свой путь, а вслед им восторженно смотрели невольные зрители маленького происшествия.
А в пыли еще долго белел платок русской женщины, примиривший два народа. Лежал немым укором и напоминанием о древнем обычае кавказских народов — брошенный белый платок прекращает всякую вражду.
Нина ГАВРИКОВА
(г. Сокол Вологодской области)
 Художник-оформитель. Сейчас на пенсии по инвалидности. Пишет стихи и прозу. Член ЛитО «Сокол» и МСТС «Озарение», руководитель детского литклуба «Озаренок» в г. Соколе. Автор 6-ти сборников прозы и стихов. Номинант международной премии «Филантроп», одна из победителей конкурса прозы журнала «Три желания». Лауреат, победитель, финалист различных литературных конкурсов. Член жюри, Лауреат и Магистр Международного Фонда «Великий Странник Молодым».
Художник-оформитель. Сейчас на пенсии по инвалидности. Пишет стихи и прозу. Член ЛитО «Сокол» и МСТС «Озарение», руководитель детского литклуба «Озаренок» в г. Соколе. Автор 6-ти сборников прозы и стихов. Номинант международной премии «Филантроп», одна из победителей конкурса прозы журнала «Три желания». Лауреат, победитель, финалист различных литературных конкурсов. Член жюри, Лауреат и Магистр Международного Фонда «Великий Странник Молодым».
ОСЕННЕЕ УТРО
Сон прозрачной вуалью окутал город. Фонари не горели, машины не тарахтели, собаки молчали, прохожих под окном не было. Над дремлющим городом склонился угрюмый месяц, дотошно изучающий темные проемы окон, и, не найдя ничего примечательного, схоронился в хмуром одиноком облаке. В наступивших сумерках во дворе ничего нельзя было различить. Только северный, холодный ветер продолжал свое дело: шумно пыхтел в мелкие щелочки деревянного переплета, словно хотел коротким путем забраться в дом. Как только первые лучи нового утра дотянулись до кромочек крыш, исчез.
Мрачные мысли бабушки Клавы, не находя пристанища, кружились вокруг нее, образуя монотонную тяжелую ауру; в сердечном клапане уже давно образовались глубокие трещины. Глаза невыносимо болели, веки отяжелели, но заснуть не могла. Старушка сидела на кухне у окна в инвалидном кресле в одной ночной сорочке, подпирая подбородок кулаками. Вся жизнь черно-белым калейдоскопом рассыпалась перед глазами. Каждый день похож на предшествующий. Ни желаний, ни душевных сил почти не осталось. Дух, как раненая, падающая с высоты птица, сложившая крылья, покидал больное тело. Зачем судьба выбрала именно ее для этого бессмысленного существования? Вопросы без ответов беспомощно зависли в воздушном пространстве.
Женщина, потянувшись, опустила босую ступню на ледяной пол, холодок свежести поднялся от пятки до макушки. Руками подняла ногу обратно на подножку.
— Нынче осень ранняя! — уныло вздохнула она. Медленно передвигаясь по скрипучим половицам, подъехала к окну в большой комнате и посмотрела во двор. В центре — две стройные березки, их посадили вместе с подругой, когда закончила школу. Молодые стволы тянулись к небу настолько близко друг к другу, что издалека могло показаться, что это одно большое дерево. Еще вчера березы выглядели нарядными, как ученицы во время выпускного бала в длинных вечерних платьях. За ночь длина подолов стала заметно короче. Многочисленные листья-лохмотья оказались беспорядочно разбросанными на поверхности земли.
— ПОДРУГА! Лучшая! Любимая! Интересно, где она сейчас? Что с ней? Двадцать лет дружбы... настоящей, крепкой, искренней. В школе и в техникуме сидели за одной партой. На работу устроились на одно предприятие. Постоянно созванивались, праздники отмечали весело, дружно, с размахом. Радость делили пополам... А горе? Кому нужна чужая беда, чужая боль? Столько лет верила в чудо? Напрасно с надеждой прислушиваясь к каждому шороху и вглядываясь в закрытую дверь, ждала, что подруга придет, сядет рядом на краешек кровати, возьмет за руку, заглянет в зеленый омут ее глаз и спросит: «Как настроение, как дела?»
— Нет сил вспоминать,— прошлое подкинутой гремучей змеей сдавило горло, стало тяжело дышать. Клавдия проехала на кухню, плеснула из чайника в чашку немного воды, выпила. Вновь уперлась глазами во двор. Слева от берез возвышалась добрая тетушка осина, ее посадил дедушка. Он тогда только-только вернулся с войны и, чтобы хоть как-то облагородить пустырь перед домом, привез веточку из леса. Бабушка рассказывала, что саженец прижился сразу. Почтенная осина не раз испытала на себе веретено судьбы и сейчас не торопилась сбрасывать теплый лиственный палантин, потому как берегла от стужи старые «косточки». Справа ближе к окну, задрав голову к небу, находилась сирень. Это папа привез когда-то от своих родителей тоненький прутик и воткнул прямо в клумбу, никому ничего не сказав. Веточка разрослась, превратившись в роскошный куст, весь покрытый цветами, только тогда папа признался, что посадил как раз в тот день, когда пришел свататься. Он был уверен, что избранница примет предложение. В этом году сирень, видимо, поссорилась с хозяйкой осенью, ее крона осталась зеленой.
Родители! Кто может быть дороже и ближе? Кто может только по одному твоему взгляду, по голосу, по шагам понять твое настроение, состояние души? Вспомнилось, как в первый и последний раз получила двойку. Портфель еле тащила. Казался неподъемным, в него будто кирпичей наложили. Ноги заплетались, не хотели слушаться и шаркали подошвами по земле. Мама, видимо, почувствовав неладное, в испуге выскочила на крыльцо и сразу засыпала вопросами: «Что случилось? Почему такой вид? Кто обидел?». «Двойку получила». «И всего-то?» — весело рассмеявшись, обняла и поцеловала она.
— Мама! Как давно лишилась маминой любви, ласки, заботы, а до сих пор хочется посадить на диван, взяв расческу, забраться на спинку и заплетать тебе бесчисленное множество тонких косичек, при этом незаметно раскрывая сокровенные детские тайны и мечты,—непрошеная слеза покатилась по щеке.
За окном что-то изменилось, зашевелилось, двор ожил. Это вернулся ночной гость — порыв ветра; с березок слетели остатки материи-листвы. Еще порыв, тетушке осине трудно сопротивляться неистовой силе ветра, теплая накидка податливо распахнулась, стремительно съехав с покатых «плеч», рухнула вниз. Сирень в страхе беспомощно прижалась к окну. Безобразник тряхнул ее так, что остатки листьев осыпались, как ненужный мусор. Покончив с деревьями, ветер решительно поднялся вверх, оседлав серое безликое облако, помчался на север.
Потеряв золотые наряды, деревья стали выглядеть оголенными. Во дворе стало совсем неуютно. Черная промозглость заставила съежиться от холода. Тоскливые размышления не давали покоя старушке:
— Вот так и моя, стремительно пролетевшая, собственная жизнь схожа с этими листочками. Насколько коротка она...
Рассуждения прервал звонок в дверь. Старушка суетливо заторопилась, привычно вращая колеса коляски, выехала в прихожую, открыла дверь. Муж вернулся с ночной смены, следом появились сыновья с семьями.
— Бабушка, посмотри, мы привезли саженцы дубков. Давай дубки во дворе посадим, пусть вырастут большими-большими и крепкими,— в руках малыши держали молодые побеги деревьев. Корни, которых были аккуратно обернуты полиэтиленом.
— Хорошо, только оденусь,— жизненные силы возвращались, медленно заполняя молодым, задорным, живительным бальзамом образовавшиеся глубокие сердечные расщелины.
Муж пошел в подвал за лопатой.
— Мы пока наберем в ведро воды,— перебивая друг друга, тараторили дети.
Обняв и поцеловав в щечки своих любимцев, Клавдия направилась в спальню, подумав про себя: «А все-таки жизнь прекрасна и она продолжается!»
Рудольф АРТАМОНОВ
(г. Москва)
 Окончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова в 1961 г. Врач-педиатр. Доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Член Союза журналистов г. Москвы. Пишет прозу. Публикуется в журнале «Приокские зори» с 2007 г. Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова.
Окончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова в 1961 г. Врач-педиатр. Доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Член Союза журналистов г. Москвы. Пишет прозу. Публикуется в журнале «Приокские зори» с 2007 г. Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова.
ИЗ ЗАПИСОК ДЕТСКОГО ВРАЧА
«САМОУБИЙЦА»
Дети артистичны до чрезвычайности.
Вот такой был случай.
В кабинет заведующей отделением стремительно вошла старшая сестра. Вид у нее был рассерженный. За руку она вела девочку лет семи.
— Вот полюбуйтесь, Клавдия Николаевна, что удумала эта красавица из пятой палаты! Все уже поели, разошлись, а она все сидит, ковыряет ложкой кашу. Я отругала ее, так она встала из-за стола и направилась на кухню. Я за ней. Что, говорю, тебе надо на кухне? А она: я за ножиком. Зачем, спрашиваю, тебе нож понадобился. Так знаете, что она мне сказала? Говорит, горло себе сейчас перережу.
— Что?! — в один голос воскликнули мы с заведующей.
— Несите мне ее историю болезни, сейчас буду звонить матери, пусть забирает,— решительно сказала заведующая, когда немножко опомнилась от услышанного.— Этого нам еще не хватало. Убегают, дерутся, а мы за них отвечай. Теперь самоубийцы объявились.
В самом деле, работа в отделении для детей старшего возраста дело хлопотное. Бывает, и убегают из отделения, потом разыскиваем их через милицию. Летом из окон открытых высовываются, а наше отделение на третьем этаже. Хоть и девчонки, подраться могут. К старшим вечером приходят молодые люди. Сколько ловили на лестнице с сигаретой.
Позвонили из приемного покоя и позвали Клавдию Николаевну.
— Сиди здесь, я сейчас приду и займусь тобой,— сказала она, уходя вместе со старшей сестрой.
«Сиди здесь» относилось к девочке, но я тоже остался в кабинете.
Девочка уселась на диван и с любопытством посмотрела на меня, как бы приглашая к разговору. На самоубийцу она нисколечко не была похожа. Ни удрученности, ни замкнутости, ни мрачности во всем ее облике не было и в помине. Глаза смышленые. Лицо выразительное, оживленное.
— Как тебя зовут? — спросил я.
— Таня,— с готовностью ответила.
— Ты что же, Таня, в самом деле, шла за ножом на кухню?
— Ну, что вы — последовал ответ.— Я хотела их попугать. Мне просто надоело, что все меня здесь дергают: «ешь скорее, иди умывайся, иди получать лекарства, марш на процедуры». Я так не привыкла.
— Здесь же больница,— ничего лучше не нашел сказать я.— А к чему ты привыкла?
Девочка оживилась. Встала с дивана, подбоченилась и с детской грацией, жестикулируя, сказала:
— Я привыкла, что бы со мной обращались как с человеком.
— Мама и папа с тобой так и обращаются, как с человеком?
— Представьте себе, да.
— Да, ты, наверное, актрисой собираешься быть? — вдруг осенило меня.
— Вы угадали. Я хожу в драмкружок.
— И какие роли ты уже играла?
— Золушку,— сказала она и сделала несколько танцевальных «па» на цыпочках.
Мы оба рассмеялись. Я захлопал в ладоши. Она присела в книксене.
Эту сцену застала вернувшаяся Клавдия Николаевна.
— Что здесь за театр? Сядь на диван,— сказал она Тане.— Сейчас буду звонить твоей матери.
— Клавдия Николаевна, позвольте Тане идти в палату,— попросил я.
Заведующая вопросительно посмотрела на меня. Я многозначительно посмотрел на нее.
— Иди в палату и жди,— сказала она девочке.
Когда Таня вышла, я все объяснил.
— Ишь, артистка,— сказала заведующая.
Девочка осталась в отделении и выписалась после выздоровления.
ПОД БДИТЕЛЬНЫМ ОКОМ СОСЕДА
Это было в пору моей работы участковым педиатром. Я был молод и не забывал следить за своим внешним видом — костюмом, прической, обувью. На работу ходил с атташе-кейсом, как тогда говорили,— с «дипломатом» — плоским элегантным чемоданчиком. Хотелось «держать марку».
Участок мой располагался в рабочем предместье города. Еще были бараки и коммунальные квартиры. Детей было много, и работы было много.
В тот день поступил вызов в один и бараков. Барак — это длинный одноэтажный дом со сквозным коридором, по обе стороны которого располагались жилые комнаты. От других видов человеческого жилья барак отличался тяжелой духотой, наполнявшей каждый его угол, и впечатлением человеческого муравейника из-за обилия жильцов.
Я позвонил в дверь. Открыл явно нетрезвый человек, примерно моего возраста, то есть еще молодой.
— К кому? — медленно выговаривая, недружелюбно спросил он.
— В двенадцатую,— ответил я и пошел по коридору, ища нужный мне номер комнаты.
Нетрезвый человек следовал за мной. Я слышал за спиной его тяжелое сопение и неуверенную поступь.
Найдя нужный номер, я вошел в комнату. Болел трехлетний мальчик. С ним была его мама. Этот тип женщин, населявших бараки, был мне уже знаком. Молодыми девчонками они выходили замуж, рано рожали детей, умели «держать в руках» начинавших спиваться своих еще молодых мужей. По-детски неопределенные черты их лиц быстро становились резкими и грубыми, как и их характер.
Я начал осматривать больного малыша. Он кричал, сопротивлялся. Пришлось попросить маму взять его на руки. Мы стояли с ней друг против друга, между нами был ребенок, горячую от высокой температуры спинку которого я выслушивал фонендоскопом.
Вдруг открылась дверь. На пороге стоял тот самый крепко подвыпивший парень, который открыл мне входную дверь.
—Тебе чего, Леха? — спросила, не оборачиваясь, молодая мама.
Леха ничего не сказал, только вялым движением пьяного человека погрозил мне пальцем и закрыл дверь.
Я закончил осматривать ребенка, сел за стол и стал выписывать рецепты на лекарства.
— Пройдет? — спросила мама ребенка.
— Пройдет,— сказал я.
Затем поднялся и стал объяснять, как принимать лекарства.
В этот момент дверь открылась снова, и Леха во второй раз обозначился в дверном проеме.
— Опять ты,— раздраженно сказала молодая женщина.
— Людка, он к тебе не пристает? — заплетающимся языком промолвил Леха.
— Да пошел ты! Надоел,— последовал ответ.— Закрой дверь.
Надоедливый сосед послушно закрыл дверь, перед этим успев погрозить мне пальцем.
Закончив объяснения, я вышел в коридор и направился к выходной двери. Меня сопровождал Леха. Покачиваясь, он шел рядом и говорил.
— Людка — жена моего кореша. Понял, да? А сегодня я в отгуле. Малость поддал, понял, да?
- сопроводил меня до самого выхода и долго закрывал за мной дверь.
«Легко отделался»,— подумал я. Месяц назад в соседнем бараке избили Марию Ивановну с «неотложки». По пьянке, конечно. Теперь на вызовы ее сопровождает шофер с воротком*.
«МАЛИНОВКИ ЗАСЛЫШАВ ГОЛОСОК …»
На ежедневной утренней пятиминутке ординатор Наталья Петровна, между прочим молодая, привлекательная девушка, доложила, что вчера вечером в отделение поступил новый больной.
— Мальчик пяти лет. Подозрение на гломерулонефрит. Красную мочу заметила мама. Состояние ближе к удовлетворительному.
После паузы добавила:
Знаете, ну, прямо ангелочек. Волосики белые, глазки синие, а на вид — маленький мужичок. Из деревни привезли.
Наталья Петровна недавно окончила институт, «безумно», как она говорила, любит детей и в каждом видит либо Маленького Принца, либо Дюймовочку, в зависимости от пола.
Через пару дней, на очередной утренней пятиминутке Наталья Петровна объявила:
— Вы знаете, Павлик, из двенадцатой палаты, ну, тот, который из деревни, с макрогематурией, так здорово поет. Прямо как Робертино Лоретти, если помните. Пойдемте, послушаем.
Те, кто пошел, рассказывали, что парнишка и в самом деле поет отменно. Особенно у него хорошо получается «Малиновки заслышав голосок…».
Наталья Петровна ставила его на стул посреди палаты. Он пел, ему хлопали — врачи, медсестры, мамы, которые были со своими больными детьми. Приходили из других палат.
«Малиновку» заставляли петь «на бис». Говорили, пел уж очень проникновенно, голосок так и звенит-переливается.
Прошло еще несколько дней, и Наталья Петровна огорченно объявила на одной из пятиминуток:
— Вы знаете, Павлик — ну, тот, из двенадцатой палаты, с так называемой макрогематурией — свеклой его накормили,— матом ругается.
— Как, матом?! — удивились все, кто видел и слышал, как поет этот маленький ангелочек-мужичок.
— Его попросили спеть «Малиновку», хотели поставить на стул, а он говорит — «пошли вы на…».
— Куда, куда? — переспросили самые непонятливые.
Наталья Петровна восприняла вопрос серьезно.
— Ну-у…— протянула она, и щеки ее стали красными, как свекла, которой перекормили ее Маленького Принца.
— На «икс», «игрек» и «и краткое»? — то ли с вопросом, то ли в шутку, подсказал один из молодых ординаторов, Дмитрий Иванович, одновременно с Натальей Петровной пришедший в отделение.
—Дмитрий Иванович…— с укоризной остановила его заведующая отделением.
И сама пошла, послушать деревенского Робертино Лоретти.
Через пять минут она вернулась. Мы еще не успели разойтись после пятиминутки и оживленно обсуждали особенности деревенского быта.
—Да,— сказала заведующая,— и меня послал. Куда, не скажу. Нельзя же так надоедать человеку: спой, да спой. Не игрушка же.
По прошествии недели стало ясно, что никакого гломерулонефрита у Павлика нет. Моча, в самом деле, приобрела красный цвет от красной свеклы, которой в избытке накормила его мать.
В биохимическом анализе крови мальчика оказался повышенным холестерин, и его решили показать на обходе профессору.
Наталья Петровна доложила историю болезни и не преминула сказать, что ее подопечный хорошо поет, особенно «Малиновку».
Поэтому, когда привели мальчика для осмотра в ординаторскую, где у нас проходят обходы, ничего не подозревая, профессор спросил:
— Спой нам что-нибудь, Павлик. Говорят, ты хорошо поешь «Малиновки заслышав голосок»?
Мальчик набрал воздух в грудь...
Но тут заведующая, глянув на Павлика с нахмуренными бровями,
быстро приложила палец к своим губам.
— Что такое? — спросил профессор.
— Он может матом выругаться,— быстро пояснила заведующая,— если его попросить спеть «Малиновку».
Так и осталось неизвестным, собирался ли мальчик запеть или …
Обсудив историю болезни и придя к единодушному мнению о диагнозе, пригласили родителей ребенка.
После того как объяснил, почему у Павлика была красная моча, профессор сказал родителям:
— Матом он у вас ругается, нехорошо.
— Это вы ему скажите,— ответила мама ребенка, показывая на мужа.
— А что? — невозмутимо ответил отец мальчика, синеглазый, белокурый, косая сажень в плечах.— Я не ругаюсь. Это просто так.
На том и разошлись, каждый оставшись при своем мнении.
А мы еще долго вспоминали Павлика, напевая неотвязчивый мотив «Малиновки заслышав голосок …»
Вячеслав МИХАЙЛОВ
(г. Москва)
 Родился в г. Термезе. Окончил Московский гидромелиоративный институт. Кандидат экономических наук. Ph.D in Economics. Опубликованы более сорока научных работ. Печатался в «Литературной газете», литературном сборнике «Иван-озеро», во всероссийском ордена Г.Р. Державина литературно-художественном и публицистическом журнале «Приокские зори», альманахе «Ковчег».
Родился в г. Термезе. Окончил Московский гидромелиоративный институт. Кандидат экономических наук. Ph.D in Economics. Опубликованы более сорока научных работ. Печатался в «Литературной газете», литературном сборнике «Иван-озеро», во всероссийском ордена Г.Р. Державина литературно-художественном и публицистическом журнале «Приокские зори», альманахе «Ковчег».
ЭКЛЕРЫ
С воскресной дневной тренировки шли, не торопясь, Юрка и Сережка: первый налегке, второй — с небольшой спортивной сумкой на плече. Настроение чудное: скоро летние каникулы, несколько футбольных турниров и столько всего! Перебирали азартно интересные моменты игры, которую тренер, по обыкновению, оставил на конец. Финальная эта часть тренировки была для мальчишек самой желанной, казалась скоротечной. С удовольствием гоняли бы мяч все время вместо скучных силовых упражнений, разборов игровых ситуаций, прочих занятий. Вот и теперь, не наигравшись вволю на поле, то и дело затевали на ходу перепасовку мелкими тротуарными камушками, принимали поочередно воображаемый мяч на грудь, били его головой, крутили с ним финты, мешая прохожим.
Учились мальчишки в разных школах, друзьями не были, встречались и общались только на тренировках, соревнованиях да еще изредка возвращались вместе со стадиона: кто-то из родственников Юрки жил недалеко от Сережкиной многоэтажки.
Приближался хорошо знакомый кондитерский магазин «Сдоба», аппетитно пахнущий издали, соблазнительный, манящий. У Сережки имелась заначка, и он сказал Юрке: «Зайдем». Тот сглотнул голодную слюну, хлопнул руками по карманам: «Я пустой».
— На пару коржиков у меня есть,— успокоил Сережка.
В просторном светлом павильоне со стеклянным фасадом не было никого, кроме пышной симпатичной продавщицы с благодушным лицом, идеальной хозяйки этих изобильных витрин, предлагающих торты песочные, бисквитные, торты-безе, пирожные «Корзинка», «Эклер», «Картошка», «Буше», коржи разных видов и форм — благодать для сладкоежки. Несколько лотков с пирожными и коржами были выставлены поверх витрин.
Стоя за витринами, продавщица говорила с кем-то через приоткрытую во внутреннее помещение дверь.
— Что берем, мальчики? — повернулась она к ним, приветливо улыбнувшись.
— Пару коржиков-уточек, наверное,— сказал Сережка, пересчитывая мелочь.
Продавщица опять обернулась к двери, что-то спросила. Потом скрылась за нею, предупредив громко: «Я мигом».
— Сумку открой,— процедил неожиданно Юрка.
Сережка машинально расстегнул, а Юрка стремглав кинулся к дальнему лотку с пирожными, схватил проворно три эклера и сунул в сумку. Сережка оторопел: в ушах зашумело, сердце загрохотало во всех сторонах, перехватило дыхание. Очнувшись через секунды, стал доставать назад пирожные.
— Ты, что! Застукает,— вцепился в его руки Юрка, с трудом удерживая их.
Сережка рывком высвободился, полез опять за эклерами, как тут послышались быстрые шаги, и в павильон вернулась продавщица. Сережка застыл, вытянувшись столбиком.
— Ну что, мальчики, выбрали?
Похоже, ее все еще занимала нужда, отвлекшая во внутреннее помещение. Взгляни она в Сережкины глаза, из которых били растерянность, испуг, негодование, наверняка почуяла бы: что-то не то.
Юрка поспешно кивнул: «Ага. Дайте две уточки». Пока женщина заворачивала коржи, он прошептал недвижному Сережке: «Деньги давай, и уходим». Тот пудовыми руками покорно отдал монеты продавщице, а Юрка взял коржи, вежливо поблагодарил и потянул Сережку к выходу.
За дверями Сережка разгневанно напустился на Юрку, толкнув его с силой в плечо: «Ты гад, Юран! Это же воровство! Пошли, вернем». Оскорбленный Юрка покрутил у виска пальцем: «Сам ты гад! Куда пошли? Не заметила же. Хочешь, чтобы шум подняла. Когда хватится, нас и не вспомнит… Да они сами лопают и списывают: просрочено там или еще чего. Нашел воровство. Ешь пирожное — повкуснее коржика». Он ловко выудил из приоткрытой Сережкиной сумки эклер, принялся смачно уплетать его.
Шума Сережка не хотел. С ненавистью глядел на Юрку, торопливо доедающего пирожное, роняющего крем на тротуар и себя. Не выдержав этой картины, выхватил два оставшихся эклера, сунул их в руки изумленному Юрке: «На, жри!» — и пошел быстро прочь.
Шагал, плохо разбирая дорогу, костерил всяко Юрку, а заодно его родню, что проживала поблизости и одарила таким попутчиком. Потом раз за разом воспроизводил в сознании происшедшее, и на душе становилось еще тяжелее, мысли мешались. Но одна стала пробиваться отчетливо: «А ты-то, ты! Такой же воришка! Мелкий трусливый воришка!.. Рядом стоял? Стоял. Сумку подставлял? Подставлял. Юрана не остановил? Нет. Воришка! C почином!»
В горячих висках лихорадочно застучал вопрос: «Как быть?! Как?!»
Несмотря на смятение, удивительно скоро нашелся обнадеживающий выход: «А так! Достать надо срочно денег — больше, чем стоят три эклера, хотя бы раза в два — и отдать продавщице, повиниться, прощения попросить. Это, мол, за эклеры и штраф как бы… К маме за деньгами не пойду. Продам серию кубинских марок «Африканские хищники» — Ванька ее давно хотел, заплатит сразу… Спрашивать начнет продавщица — что да как — скажу просто: сами не знаем, как так вышло, простите — бес попутал. Пожурит, погрозит, не без этого, и отпустит. Чего ей шуметь — деньги вернули с лишком». Сережка с облегчением поверил, что так оно и выйдет, не мешкая взялся за исполнение задуманного.
И вот меньше чем через час с деньгами, полученными за марки, он уверенно направился к цели, широко вышагивая. Как не силился отбрыкиваться от сомнений, опасений по поводу своего решения, они таки прорывались, допекали, замедляли шаг и, добившись своего, остановили за несколько десятков метров до «Сдобы». «Ну, зайду я,— рассуждал Сережка,— и выложу, что придумал, а она все ж возьмет и поднимет шум, хоть и милаха: “Денег принес больше, чем пирожные стоят! Откупиться хочешь, хитрец! Нет, касатик. Это воровство! Мелкое, а воровство. И по закону ответишь. Дружка нет, один ответишь. Милиция разберется — по какому закону. И в школе покраснеешь, как положено, и перед родителями”. Так и будет,— похолодел, сник мальчишка.— Мама еще поймет, а отец! А школа!»
Он прошел мимо злополучного магазина, прибавил шагу. Брел и брел по хмурому, душному городу, по самым отдаленным улицам и пыльным переулкам, волоча за собой тяжкий груз, пока совсем не устал. Упал на облезлую скамейку, вытянул гудящие ноги. Напряжение основное схлынуло, и возникли спасительные размышления: «Все ж было, как снег на голову. Я никак не ожидал, представить такого не мог… И пытался вернуть пирожные на витрину, да помешал этот… И швырнул эклеры этому… Что, надо было выложить их прямо перед продавщицей? И объяснить потом, что не верблюд?.. Короче, пирожные я не тырил, не жрал. Нечего и стыдиться, изводить себя».
Приободрившись, отправился скорей в свой двор, к ребятам. Те собирались в кинотеатр. Обрадовался случаю отвлечься, присоединился к ним. Смотрели старый фильм о войне, о партизанах, среди которых было несколько мальчишек — пионеров. Смышленые пацаны, вооруженные не хуже взрослых, бесстрашно подрывали фашистские поезда, обстреливали вражеские автоколонны, ходили в разведку в окрестные деревни, где располагались гитлеровцы, получали ранения, а одного даже убили в бою. Сережка и другие дворовые ребята не раз уже видели эту картину, и она им не надоедала. После просмотра обычно проходились по ярким эпизодам, фантазировали, как бы сами на месте героев фильма дурили и мочили фрицев, придумывали собственные ходы. Завидовали юным партизанам и непременно похвалялись, что доведись партизанить, себя бы уж показали, без наград не остались.
Сережка незаметно ускользнул из кинозала перед окончанием фильма и побежал к «Сдобе». До закрытия оставалось немного. Дождавшись терпеливо, когда павильон опустеет и продавщица останется одна, он вошел, стиснув в ладони приготовленные деньги. Минут через пять с сияющим лицом, эклером в руке, появился на низком крыльце павильона, шагнул с него и полетел над уютным, воздушным городом.
Николай МАКАРОВ
(г. Тула)
 Военный врач ВДВ, гвардии майор медицинской службы, член Тульского общества православных врачей, член Союза писателей России, лауреат литературной премии «Левша» имени Н.С. Лескова и литературной премии Правительства Тульской области имени Л. Н. Толстого.
Военный врач ВДВ, гвардии майор медицинской службы, член Тульского общества православных врачей, член Союза писателей России, лауреат литературной премии «Левша» имени Н.С. Лескова и литературной премии Правительства Тульской области имени Л. Н. Толстого.
СОЛДАТЫ ТРЕТЬЕЙ РОТЫ*
Уникальные солдаты приходили служить в нашу третью роту… Неповторимые солдаты…
БУДНИКОВ
Очередные учения. Конец февраля — начало марта. Десантирование в составе полка на площадку под Гороховцом (город есть такой во Владимирской области, названный так в связи с близлежащими Гороховецкими лагерями). Вместе с полком прыгает начальник медицинской службы дивизии гвардии полковник (за войну получил папаху — атрибут зимней одежды полковников и выше) Крапивный. Любитель парашютных прыжков и неожиданных для подчиненных учебных вводных.
Десантирование проходит на «хорошо» и «отлично». Или не совсем на «хорошо» и «отлично»? Это кто там, на краю площадки? Орет благим матом? Кто не может встать на ноги, барахтаясь в снегу?
А это — гвардии полковник медицинской службы, имитируя перелом ноги, проверяет на «вшивость» медиков полка (на настоящей-то войне всякое может произойти).
Но на его беду (беду ли?) рядом приземляется гвардии старший сержант Василий Будников, санинструктор третьей роты. («Летающий шкаф», мастер спорта по боксу, бывший студент четвертого курса Курского мединститута, за какие-то грехи срочно прервавший учебу на два года с последующим восстановлением во всех правах законопослушного студента).
Не долго думая, наш Василий со всего размаха прикладывается валенком, обутым на сорок шестой размер ноги, по мягкому месту орущего «раненого» (на всем десанте: офицерах, прапорщиках, сержантах, солдатах — одинаковая форма одежды без знаков различия — зимняя «десантура», а на Крапивном, вдобавок, нахлобучена солдатская шапка). И ласково, так душевно, «раненому» говорит, почти шепотом:
— Какая нога? Ты чего салабон придуриваешься? Встать! Бегом марш!
Следует очередной валенко-удар.
— Доложишь, та-та-та, на сборном пункте! И сдашь, вдобавок, мой парашют. А то по-настоящему вырву твои сраные ноги и спички вставлю…
Рванув автомат, вставив спаренный рожок, санинструктор третьей роты, утопая по пояс в снежной целине, как и весь полк (так и хочется написать: помчался) стал пробираться до ближайшей дороги.
Откуда известна эта история?
Сам гвардии полковник медицинской службы Крапивный на всех
совещаниях с гордостью рассказывал об одном своем подчиненном… в одночасье распознавшем в нем симулянта…
КАРТАШОВ
Одна тысяча девятьсот семьдесят пятый год. Конец февраля — начало марта. Полковые тактические учения с десантированием в «глубокий тыл противника» с последующим совершением рейда и уничтожением объектов супостата.
Накануне вечером последний смотр готовности войск к учениям. Первый батальон построен на плацу шеренгами с интервалом между собой по 2—2,5 метра. Комбат, замполит, начальник штаба и доктор (ваш покорный слуга) обходят личный состав для обнаружения последующего немедленного устранения недостатков.
Взвод связи — без замечаний.
Первая рота — без замечаний.
Вторая рота — без замечаний.
Третья рота — без замеча… Стоп! Последняя шеренга. Левофланговый. Рядовой Карташов. Второй год службы. Не «салага». Вместо валенок на ногах — сапоги. Устранить! Доложить! Через десять минут — устранено. Доложено!
Батарея СПГ (СПГ — станковый противотанковый гранатомет) — без замечаний.
Взвод снабжения без замечаний…
Наутро, перед движением на аэродром (это рядом; северное КПП полка напротив Тульского аэропорта; чуть дальше — полк самолетов Ан-12, с которых мы тогда прыгали) опять построение. Ни одно мероприятие в Армии не проходит без построения. Пересчитать военнослужащих на предмет их наличия. Посмотреть внешний вид. Отдать ЦУ и ЕБЦУ (ЦУ — ценные указания, ЕБЦУ — еще более ценные указания). Равняйсь! Смирно! Я в темпе произвожу опрос личного состава на предмет заболеваний и недомоганий, возможно случившихся за ночь.
Взвод связи — жалоб нет.
Первая рота — жалоб нет.
Вторая рота — жалоб нет.
Третья рота — жалоб нет. А Карташов? Где Карташов? Ах, здесь! Ах, ты эдакий и разэдакий, такой-сякой, мазаный-перемазанный, опять в сапогах. Вместо валенок. Устранить! Доложить! Через три минуты устранено. Доложено!
Батарея СПГ — жалоб нет.
Взвод снабжения. А взвода снабжения в полном составе нет. Взвод снабжения в составе тыловой группы полка, выдвинулся в район десантирования (под Ясногорск) для встречи основных войск. Для сбора парашютов. Выдачи лыж, горячего чая, бутербродов…
Аэродром. Очередное построение. По самолетам: личный состав двумя колоннами перед открытыми кашалотообразными люками-пастями Ан-двенадцатых в утреннем морозном полумраке, жмурясь и прикрывая лицо от снежных вихрей, поднятых работающими пропеллерами, медленно продвигается в чрево холодного чудовища. Где Карташов? Вон он — этот солдат, в моем самолете. Без валенок. В сапогах! Исправлять и докладывать об исправлении нет времени. Ладно, пока не замерзнет, а там, на площадке приземленья что-нибудь придумаем…
Десантирование прошло успешно, если не считать двух приземлений на запасных парашютах (Витька Трунилин, фельдшер-срочник полкового медицинского пункта полка и майор Судариков; рядовому — десять суток отпуска, майору — строгий выговор. Об этом — в другой раз). Войска на пунктах сбора. Пересчитаться. Перемотать портянки. Хлебнуть горячего чая. Получить вводную на выполнение ближайшей задачи…
Взвод связи и батарея СПГ рассредоточена по ротам.
Первая рота — пошла.
Вторая рота — пошла, марш-марш.
Третья рота — пошла, марш-марш, вперед.
Управление батальона в арьергарде. На возвышенности. В пятидесяти метрах от ПХД (ПХД — пункт хозяйственного довольствия, где сосредоточен весь взвод снабжения с техникой, кухней: обоз, одним словом). И вдруг… Вдруг — нашу группу обгоняет отстающий боец. Лыжник в сапогах! Карташов! Стоп, машина — задний ход! Незадачливому солдату делается очередное нелицеприятное внушение. Его разворачивают под белы ручки на сто восемьдесят градусов. Показывают направление в сторону нашего ПХД (пятьдесят метров до него!). Комбат громовым голосом передает командиру взвода снабжения приказ: «Взять разгильдяя! Поставить на довольствие! Возить только в кабине! Понятно?».
«Есть! Так точно! Будет исполнено!».
Управление, вперед, марш, марш вперед. Догонять войска. Руководить войсками. Первым батальоном…
Захват и разгром «супостата» прошел как по маслу, то бишь по заранее утвержденному плану. Согласно утвержденному плану закончилась и наша «война» на следующий день. Не рассчитан десант на более длительные боевые действия. Сделал дело и... как одноразовый… воздушный шарик. Для дальнейшего применения не пригоден. Ну, это — так, лирическое отступление. А так как у нас всего-навсего учения, то и пора честь знать. Пора собираться до кучи. Пора ехать на зимние квартиры. Ага! Щас! А пересчитывать личный состав кто будет? Кто будет пересчитывать оружие? Дядя Пушкин?
Взвод связи — все на месте. Оружие на месте.
Первая рота — все. Оружие на месте.
Вторая рота — все. Оружие все.
Третья рота — все на мес… Нет, не все. Нет одного. Нет Карташова, едрит твой корень. Может в другие подразделения прибился, бедолага.
Батарея СПГ — все. Посторонних нет.
Взвод снабжения — все. Посторонних нет. А этот ваш сраный Карташов сбежал ночью из машины. Но… Но обутый в валенки. Вон замок (замок — заместитель командира взвода) валенки ему свои отдал.
Запросить другие батальоны — брошена соломинка, на всякий случай. Карташова нигде нет! Нет и автомата!!! АКМС.
Все—е—е—е—м отбой! Первому батальону ученья продолжать! Искать солдата. Искать автомат…
Трое суток искали Карташова. Искали автомат. В районе учений и прилегающих окрестностях. В районе «боевых» действий полка. Трое суток искали. Три дня в светлое время вертолет на сверхнизкой высоте утюжил этот злополучный район, помогая поискам.
Карташова нигде не было. Вместе с автоматом!
На четвертый день местное, колхозное, женского пола, крестьянство поехало к ближайшему от деревни (135 метров!) стогу сена. Коровы тоже, даже зимой, почему-то хотят кушать. (А надо сказать, около этого стога раз пятнадцать днем и ночью, с матюгами и факелами, проходили поисковые группы). Значит, подъехали к стогу, но руками-то несподручно грузить в тракторную тележку сено, вот и вонзили в стог вилы, норовя ухватить побольше, а в ответ… В ответ из стога леденящий в жилах кровь нечеловеческий вой (хорошо, вилы угодили в бок и только обозначились незначительными царапинами) и появление... солдата. Появление Карташова. С автоматом. В сапогах (!). С отмороженными до стеклянного стука ногами. С пятью (!!!) полными коробками спичек в карманах… Чего он добивался своим поступком — так никто и не понял.
Уволенного по инвалидности (1 группа — ампутация обеих ног ниже колен) бывшего солдата третьей роты никто (!) из сослуживцев не пошел провожать даже до КПП. Северного КПП полка. Напротив Тульского аэропорта…
МАРТЫНЮК
Резкий звонок в штаб первого батальона на полуслове оборвал комбата.
— Что опять у вас натворил этот долбаный Мартынюк? — орал в трубку командир полка.— Сгноить на «губе» негодяя! До командующего дошло! Сам (!!!) звонит!
Командир третьей роты — гвардии старший лейтенант Сашка Терновский — мухой прилетевший в штаб, по стойке «смирно» стоял перед комбатом. Прикидывая, какими последствиями грозит для него похождения подчиненного солдата. Маргелов, наш дядя Вася, шутить не любит!
А солдат? Что — солдат? Солдат — как солдат. Почти во всем — первый. С соседней стройки, приволочь линолеум для нужд роты — он тут как тут. В самоволку, «по бабам» — опять не оплошает. Подтянуться на перекладине — до чемпионства далеко, но тридцатник «железный». Отжимание от пола — под сотню. Марш-бросок первым никогда не приходил: два-три автомата на себе тащил «сдохших салаг». Стрелять? Как сказать? На мартовских ротных стрельбах (шеренга солдат до километра по фронту и стрельба из всего штатного оружия роты), угодив с головой в траншею,— а их на стрельбище полным-полно,— с грязно-снеговой водой и тут же выскочив оттуда, как пробка из бутылки шампанского, первой очередью завалил все, вдруг поднявшееся перед ним мишени…
Опять резкий звонок в штаб батальона. Опять полумат командира полка. Но какой?!
— Чтобы!!! Через!!! Тридцать минут!!! Комбат!!! Лично!!! Сам!!! — надрывается трубка.— Вручил отпускной билет этому отличнику боевой и политической. И!!! Лично!!! Посадил!!! Его!!! На электричку!!! В Москву!!!
Чем хороша Армия, так это тем, что подчиненному не нужно долго раздумывать над приказами вышестоящего командирования. Вредно раздумывать. Преступно. Взял под козырек. Есть! Так точно! Понял! Выполняю. О выполнении — доложу! А потом, после выполнения, в кругу семьи или в кругу друзей, за рюмкой чая можно и порассуждать об этих непонятках…
Благо, ротный находился здесь рядом, по стойке смирно стоящий, ни хрена не понимающий в метаморфозах командира полка, ждущий разъяснение батальонного.
— Что — не ясно? Переодеть в парадку! Пришить «младшего сержанта». Приказ КэПэ уже подписал. И — ко мне!
— Да… это… как его…— суворовец, выпускник «Верховного Совета» (кремлевский курсант), ротный переминался с ноги на ногу, не зная, как выкручиваться дальше. — Он… это… на «губе»… Сидит… трое суток.
Приплыли. ЕПРСТ! Командующий (Сам!) требует его в отпуск, а они понимаешь, тут безобразия безобразничают…
Вечером вся (!) рота, третья рота, провожала Мартынюка в отпуск. До КПП. Северного КПП полка. Напротив Тульского аэропорта. Где располагалась конечная остановка троллейбуса. Шестого маршрута. «Московский вокзал — Аэропорт»…
Подоплеку этого своего отпуска Мартынюк рассказал через десять суток, по прибытии в расположение.
…Пришел накануне того самого ажиотажа к генералу армии Маргелову Василию Филипповичу его предшественник, бывший командующий Воздушно-десантными войсками. И так, вроде бы невзначай, между делом, поинтересовался: «Чего, дескать, моего внука не дождемся в отпуск. Бабы мои — и жена, и дочь — вконец достали. Мол, все: кому не лень, уже по два раза побывали в отпусках, а его, родной кровинушки, все нет и нет. Да и вообще: ты дед или кто? Не мог его от армии «откосить»? Или, на худой конец, оставить служить в Москве? А не гноить его в этой тульской тьмутаракани? И доводы, что он сам захотел служить в наших войсках, а не отсиживаться за дедовским авторитетом, бабьем не принимались абсолютно. Помог-то ему в одном — чтобы служить в Туле. И все».
…До окончания срочной службы (до дембеля) гвардии младшему сержанту Мартынюку оставалось ровно три месяца. И ровно за три месяца десять дней в полку (в роте, где все обо всех и каждом знают) обнаружилось, что с ними служит внук командующего ВДВ. Правда, бывшего командующего. Но какая, в принципе, эта разница…
РАБИНОВИЧ
За двадцать с хвостиком лет службы в ВДВ я больше ни разу не встречал среди срочников подобной, чисто «англо-саксонской» фамилии.
Боря Рабинович.
Профессиональный фокусник-престижиратор (пальцы — зависть Ойстраха!). Художник с каллиграфическим почерком (писарь роты с первых дней и оформитель стенгазет и боевых листков). Сын сапожника (за какие грехи провинился перед своим Богом и «загремел» в армию?). За два года службы не поправившийся (к «дембелю» все, как один наедают ряхи десантники) не то, что на килограммы, ни на один грамм. И… и не годный к службе в ВДВ. По трем статьям. Медицинским. По состоянию здоровья. И два года просящий Бориска Рабинович, просящий и командира роты, и командира батальона, и врача батальона, чтобы ему разрешили прыгнуть с парашютом хотя бы раз. Разочек. Такой маленький, малюсенький разочек. Если надо, он заплатит. Сумму назови. Прописью. Но я его раз за разом вычеркивал из прыжковой ведомости.
— Борис! Купи себе любой значок. Хоть, инструктора-парашютиста. Кто тебя в твоем Бердичеве будет проверять: прыгал ты или нет.
Но он всеми правдами, а больше неправдами рвался прыгать.
За месяц до увольнения из рядов Армии мне пришлось высаживать его из самолета, уже готового к взлету. Куда смотрел? Трижды (!) негодника пропустил на прыжки? Кошмар! Ему предлагали (не приказывали! У нас как в Армии: раз-два, приказ, и в дамки) перевестись в другие, не десантные войска. Ни в какую! Только в ВДВ. И ему пошли, как ни странно, навстречу, оставив служить в третьей роте.
А завтра последний его день в этих самых «продуваемых всеми ветрами войсках», в Воздушно-десантных. Завтра Боря Рабинович увольняется. Отстанет от всех со своими просьбами. Нелепыми просьбами о прыжках. А сегодня?
Сегодня прыгает второй батальон и он — Боря Рабинович — уговорил, а может, кого и подкупил (все-таки у него — чисто «англо-саксонская» фамилия), чтобы его взяли на прыжки. И прыгнул! Всего один раз! Один раз за два года службы в ВДВ. В предпоследний день своего пребывания в нашей части. В нашей третьей роте…
ОБА ДВА
Проходили у нас очередные полковые учения. В Рязани. На полигоне «Дубровичи». Десантирование — «хорошо» и «отлично». Марш в район стрельб — «хорошо». Стрельба — «хоро…». Не было никакой стрельбы. Жара в то лето — лето одна тысяча девятьсот восемьдесят первого — стояла неимоверная. Горело все, что могло и не могло гореть. Мы ждали погоду. Нелетную, дождливую погоду. Пытались стрелять в предрассветной прохладе. Сушняк загорался от первого трассера. Приходилось бросать стрельбы и мчаться тушить лес. Ждали погоду. Дождя. День ждали. Два. Неделю. И дождались. Дождались праздника. Нашего праздника — День Воздушно-десантных войск. Второе августа. День ВДВ. И день, почему-то, Ильи-пророка?
В какой праздник без баяна, т.е. без спортивных соревнований в наших войсках? Тем более — самый почитаемый, самый уважаемый праздник голубых беретов и голубых в полосочку тельняшек.
На стадионе полигона расположились два полка (наш, Тульский, и местный, Рязанский,— чай, одной дивизии, 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной, ордена Кутузова 2-й степени дивизии) и гражданские «партизаны» (студенты Московского областного, не то педагогического, не то физкультурного института, проходившие «курс молодого бойца», для получения лейтенантского в запасе звания).
Ведущие этого спортивного шоу — Высоцкий, мастер спорта международного класса по боксу в тяжелом весе, единственный из советских спортсменов дважды победивший самого Стивенса, олимпийского чемпиона, легендарного кубинского боксера, чемпион страны, чемпион Европы и какой-то волосатый, полугроссмейстер по стоклеточным шашкам.
Объявляется очередной «номер»:
— На помосте чемпион мира по дзюдо среди юниоров, мастер спорта международного класса, недавно приехавший из Испании, где этот титул и завоевал такой-то и такой! Кто бросит ему вызов? Есть — такие?
Над стадионом нависла гнетущая тишина. Нет таких! Не нашлось смельчака в двух десантных полках! Откуда им взяться? Некому честь голубых беретов в полоску грудь поддержать? Некому с самим чемпионом мира потягаться?
И вдруг… Да,— без всякого вдруг,— просто долго освобождался от обмундирования, среди третьей роты происходит шевеление и на помост пробирается тщедушный солдат. Соплей перешибешь. Трусы, грязно-вылинявшие синие, ниже колен. Руки по локоть, шея и лицо в бронзовом загаре. Большой палец левой руки перевязан стираным-перестираным бинтом. Белая-белая кожа. Механик-водитель третьей роты (к сожалению, забыл фамилию и его, и второго солдата). Но… Но в голубом берете и в тельняшке!
Неспешное, даже какое-то вяловатое рукопожатие, пренебрежительная ухмылка чемпиона: дескать, не таких мы в Испании видали, видали и укатали под фанфары; но, мол, ладно, так и быть, снизойду, покажу вам шоу-класс. Где это тут — ваш мужичок с ноготок? А мужичок, мужичок с ноготок, не раздумывая ни мгновенья, подпрыгивает выше головы (!) чемпиона, захватывает шею ногами как ножницами и заваливает соперника на бок, в полете умудряясь перехватить руки и захватить на болевой прием. Чемпион от такой наглости, а скорее, от боли жутко воет и стучит свободной рукой по помосту. Чистая победа! За пятнадцать (!) секунд (!!!).
Затем сам Высоцкий вызывает себе напарника, «мастерится» в незашнурованных перчатках. И опять, опять из третьей роты (рожают, что ли их там, в этой третьей роте?) такой же замызганно-зачуханный (а где вы видели опрятно одетых в пижонистые костюмы механиков-водителей боевых машин в полевых условиях?) поднимается на помост солдат. Ему зашнуровывают перчатки, раздается гонг, улыбающийся Высоцкий подманивает его к себе и… получает сокрушительный удар по левому уху и вдогонку — серию ударов по печени, по сердцу. Ничего себе! Зашатался Высоцкий. Не ожидал он такой прыти от почти на тридцать килограммов меньшего по весу солдата. Но надо отдать ему должное: всего два удара (наверное, и те — в полсилы) нанес он в ответ и, не дав упасть, объявил почетную ничью…
Обоим солдатам бывшие с «партизанами» руководители сборов тут же предложили без экзаменов (!) поступить в свой институт. На что наши оба механика-водителя боевых машин десанта обещали подумать…
Да, имеются в русских селеньях, то бишь в ротах (особенно в парашютно-десантных ротах!) самородки-вундеркинды, мастера на все руки. Но имеются также и в русских селениях, и в ротах (в парашютно-десантных ротах — исключительно, очень редко), имеются и встречаются Мальчиши-Плохиши… К сожалению…
Владимир ПЛОТНИКОВ
(г. Самара)
 Родился в Оренбургском крае (1963). С 5 по 10 класс жил и учился в Магаданской обл., где родители строили Колымскую ГЭС. В 1985-м окончил исторический факультет Куйбышевского госуниверситета. В 1997 г. был принят в Союз журналистов России. В 2008-м вступил в СПР. Сотрудничал со многими российскими СМИ. Лауреат Всероссийских литературных и журналистских конкурсов. Автор исторических романов и художественной публицистики.
Родился в Оренбургском крае (1963). С 5 по 10 класс жил и учился в Магаданской обл., где родители строили Колымскую ГЭС. В 1985-м окончил исторический факультет Куйбышевского госуниверситета. В 1997 г. был принят в Союз журналистов России. В 2008-м вступил в СПР. Сотрудничал со многими российскими СМИ. Лауреат Всероссийских литературных и журналистских конкурсов. Автор исторических романов и художественной публицистики.
БИЛЕТЫ ВСТРЕЧ И РАЗЛУК
В багажном отсеке вот этого купе одно время пылился проездной билет. На нем — четкие записи отправления-назначения, а с тылу — неровные росчерки от руки.
***
— Здравствуйте. Я ваш попутчик. И это судьба.
Я говорю эту пошлость, потому что надо что-то говорить и говорить весело. Никто не заставляет говорить весело (да и весело ли? — еще вопрос) — мужчине не пристало выглядеть скучным. Есть, правда, и оборотная сторона. Навязываясь с, как тебе кажется, шутками, рискуешь остаться занудой. Но в такие детали вдаются единицы. Я из них.
Накрученный задор моих слов никак не подкреплен решительностью взгляда. Прямо и долго смотреть на женщин не могу. Кажется, что оскорблю, да и если долго — обязательно расплывусь от уха до уха.
Но не смотреть прямо — не значит не видеть. Мой взгляд остер и прихватчив. И я вижу: на приветствие не ответила. Впрочем, вру: эту ракетную бирюзовую искось — а у нее ТАКИЕ глаза — уловил не столько я, сколько кто-то очень чуткий внутри. Подсознательный пеленгатор. Значит, не совсем без интереса?
— Переодевайтесь, пожалуйста.
И мягко прикрыла дверь.
Познакомились…
Сквознячок взвихряет легкий шлейф незнакомых, но чудных духов. После пятисекундной заминки сосредотачиваюсь и начинаю распаковывать чемодан. Так. Трико, майка... А тапочки? А тапочки в другом углу. А голос, кстати, приятен и текуч, можно сказать, обволакивает. Или знаком? Потому и приятен, что знаком? Нет, разумеется, я ее не знаю, просто голос… определенной категории. Все женские голоса делятся на категории (мужские — на классы). Раньше всех себя выдают хищные и истеричные. Этот не из хищных. Но даже те, из этой категории, какие знал, не так приятны. Плюс фигура с чарующим изгибом. Хороша!
Я делал все, что положено не наглому мужчине, по природе, скорее, застенчивому, но блюдущему репутацию пола. Движения нарочито замедленны, хотя внутренний ритм просто сумасшедший. Но гидротурбина работала подпольно. Подытоживающий взгляд в зеркало, вздерг чуба, невесть для чего приглаженная пальцем кожа на месте будущей складки... И я готов.
Приглашение войти повторил дважды. Первый раз все съела нежданная охрипь.
Она не замедлила ждать. И дуновение в открытую дверь освежило кубометры тоски.
Вот села на диван, открыла толстую книгу. До того, как положила ее на столик, успел выхватить фамилию. Шолом-Алейхем. И уже где-то посередке. Разлом проложен фантиком. «Белочка».
Ага. Мы любим читать. Прекрасно. Нам же проще. Думаю почти с облегчением: похоже, не надо разыгрывать трепача. Это меня всегда радовало: не сердцеед, даже, наоборот: внутренне безжалостный критик этого циничного сословия. Но почему-то и не радовало. В этот раз. Что такое? Задета струна самолюбия? Мужского! Как же: ни интереса, ни внимания. Ни капли! Опять не верно. Капля была — косая, но жгучая и увесистая — при знакомстве,— она впиталась, куда надо. Случайным такой взгляд не назовешь. В нем есть нечто...
Молчание затянулось. Все-таки лучше хоть какой-нибудь интерес, пусть бы он потом и угас по вине моего занудства... Брр, ненавижу в себе вот это мелкое петушиное чванство. Хромосомы самца, и никуда не деться. Ну, вот и дань лженауке. А ведь до войны посещал курс Вавилова.
Заглянувший проводник посулил чаю. Но как-то излишне сурово. Свысока даже.
«Будем», — одновременно и единогласно. Рассмешило обоих. Она отложила «еврейскую трагедию». Я не преминул прокомментировать:
— Какое счастье, что мы не тогда, а их горести останутся в книгах.
— По-вашему, правильно доверяться книгам? Жизнь сложнее, а зло проще и оттого сильнее. Неверно зарекаться от чего-то.
Во выдала! Голос живой, красивый, играющий. У «барышень», пропаренных Кратким Курсом, таких ноток не уловишь. Но как она неосторожна. Знавал я одну... да, вот — с тем же, вспомнил, голосом. Тем же, да не тем. На 180 градусов не тем. Как все-таки много значит интонация. А еще больше — искренность. У нее — от души, а не от напускного энтузиазма. Нет, я люблю и Партию, и нашу Советскую Родину. Не люблю горнистов: ни в постели, ни за столом. Хотя сам из таких.
Я как все. У каждого где-то на донышке запекается маленькое эхо от горна и дремлет, затянутое ряской. Прорезается наш трубач в самый неподходящий момент. Худо, когда голос высмеивает эхо. Еще подлее, если голос обвиняет, а потом судит эхо. И уж полная дрянь, когда голос сажает эхо. Но от этого никуда: за голос отвечает эхо.
Проводник вернулся с чаем в тяжеленных дореволюционных подстаканниках. В этом поезде все старое, как в музее, даже атмосфера. Такие люди меня смущают, а при напоре — раздражают. Высок, грузен, чуть потаскан, мешки под глазами. Но во всем — холеность, непрогибаемость. Говорит едко, но совершенно без выражения. Точно — из бывших.
Как, впрочем, и ты. Ты же захватил первый класс самарской гимназии. И с отцом повезло. Офицер, георгиевский кавалер, в 1918-м перешел на сторону Советской власти. Голову сложил в Туркестане. Как угадал...
Смутное детство. Учебу заканчивал в нашей уже школе. В нашей, потому как был и остаюсь советским человеком. При этом не верю в вину Вавилова. Но и не кричу об этом. Как и о многом другом. Весь крик души выплеснул в последней штыковой атаке — в 1945-м, под Бреслау. Там контузило. Фашистский штык был точен — в сердце, спас блокнот...
Я хочу ей сделать комплимент. Но как? Она однозначно показала, что банальности не пройдут. И мы обойдемся без Безыменского. И будем начеку. Женщину можно оскорбить самой пылкой похвалой. Скажи русской «Красивая дама», но по-чешски: «Пани урода».
Пришла на помощь сама:
— Могу отдать свой сахар.
— Согласен. В обмен на конфеты.
Достаю коробку шоколадных «мишек». И тут по глазам ее вижу: это женщина. Конфеты — одна из самых сильных ее... слабостей.
— Вы победили. Я сдаюсь. Мои любимые. Даже в блокаду их делали,— затрепетавшие пальцы приходят на помощь побежденным глазам.— Все так просто и сложно.
Вот и все: женщина поборола декабристку. А кто помог? «Мишка на Севере» — хозяин тайги. Впрочем, я был «за».
Беседа налаживалась, входя в русло простодушного приятельства. «Сергею» откликнулась «Людмила». Строго и чинно я достал цимлянское и крабов. Она — сыр и булку. Поочередно и без сговора. Остальное было проще, чем и радовало: картошка, капуста, огурцы, сальце.
Никогда я не говорил с посторонней женщиной так легко и про все. Не касался только войны. Зато про юность, школу, ВУЗ «раз по паре» прихвастнул. Это простительно, потому что не ложь. Ложь — это когда неправда во всем. Обман — правда не во всем. Ложь непростительна. Обман бывает благим, особенно если утешаешь и, тем более, когда правда способна убить.
Она говорила меньше, но здорово и с большим достоинством. Я не мог наслушаться. Ручеек был мелодичен, в меру серьезен, и в этой серьезности угадывалось самородное остроумие. Эта распевная редкость придавала каждому ее слову весомости и очарованья. Разговор мне уже казался драгоценностью, которую разбить страшно и очень легко. Достаточно первой же неловкости.
Точность и поэтичность ее сравнений свидетельствовала о филологическом кругозоре и немалом житейском опыте. Сколько ей? Если верить возрасту, не травленной табаком речи — немногим меньше, чем тебе. А с виду не более тридцати. Здесь все: ум, мудрость и самое редкое — терпимость. Она понимала все, но ничего не навязывала. Иногда смеялась, и это было самое восхитительное — хрустальный колокольчик звенел с искристой вершины королевской елки.
— Видишь, как все просто и сложно,— сказала она.
И он заметил, что ты давно не косишься, а смотришь прямо и тепло. И локти твои — на столе. Как у гимназистки Люсиль — дочери профессора Ларецкого. Но он не чувствовал себя учителем. В этой ученической позе было что-то трогательное, располагающее к доверию и... Насчет большего угадывать боялся. И не столько от волнительного предвкушения... Боялся того сильного и большого, что может прийти к обоим, во всяком случае, к нему. Когда закончилось вино, он предложил продолжить в вагоне-ресторане...
Ее благосклонность сводила с ума притом, что не было в ней ничего жеманного, завлекающего. Естественно и не усложняя, она говорила «да», которому ничто не мешало в любой миг сойти на нет. Тут как на минном поле. И я старался изо всех сил соответствовать, блюдя такт и меру, «которых» искренне чтил. Себе же на пользу. Женщины, как известно, пол слабый, но прекрасный. При этом каждая из них является зеркалом своего мужчины. И не всякому дано уменье не обезобразить это зеркало.
Оказывается, бывают и такие женщины. Почему их встречаешь так поздно? В молодости таких не было. Это он знал точно. Он увлекался. И не раз. До свадьбы не дошло ни разу. Но помнилась почему-то только та самая Люсиль — героиня первого романа. Они встречались, если без антрактов, два года — последние два класса и на первом курсе. Потом он не выдержал. Люсьена была настоящая барышня-недотрога. Зазнайка! Сейчас, вспоминая ее капризы, ее нетерпимость, он поражался собственному долготерпенью. Теперь его выдержки не хватило бы и на час общения с Люсиль. Нет, она была весьма недурна, упражнялась в балетной студии, одевалась со вкусом, но все в ней было — чопорность и перехлест. Собачились по поводу и без. Мирились поцелуями. На первых порах она ему нравилась. У них было то, что в этом возрасте прикидывается «любовью». Но после двух с половиной лет кабалы он ее почти возненавидел.
С тех пор ты с Люси не виделся. Да и где? После разгона генетиков ты тихо защитил диплом и убыл в Комсомольск-на-Амуре. И скоро забыл все. Строящемуся городу с сотнями молодоженов требовались учителя. В итоге, к твоей химии с биологией приплели развесистый букет гуманитарных предметов...
Потом война... Она сопровождала его все годы, но не тут, не рядом, а близко, по соседству.
...Вагон-ресторан был пуст, лишь у буфета мерно качалась парочка. Она выделяла электричество. Искр еще не было, но ток предупредительно потрескивал. Не успели сделать заказ, как началось. Поставив нам коньяк и фрукты, официант на обратном пути выразил восхищение:
— До чего красивая девушка! Восточный разрез глаз. И имя, наверное, восточное. Гульнары или Гюльджан...
— Гюрза.— Мягко поправил парень, дрессированно закрывая грудь меню.
- прищурилась и твердым, как алмазный нож, взглядом взрезала «змеелова» от переносицы до пупка. Губы ее при этом вымяукивали: «Мау-у». Следующий такт был молниеносным. На лоб парня обрушилась тарелка. Папка-меню оказалось проворней.
— Я же говорил.— Кротко улыбнулся он, ссыпая осколки, и резко пальнул из перечницы.
Боевые действия активизировались. Стратегические предпочтения «гюрзы» составляла пустая форма: стакан, тарелка, графин. Лишнее доказательство, что даже внутри амазонки прячется прачка. Сильный пол, напротив, орудовал содержательным элементом: перец, соль, уксус. Мужской выбор объяснялся проще: жирных блюд заказать не успели. Заключительным аккордом битвы стал обоюдный рывок к середине стола, где губы судорожно слились.
— Видишь, как все просто и сложно.— Одними глазами улыбнулась Людмила. И уже не вслух: "НЕ УЗНАЕШЬ?"…
После этого пить и есть не получалось. Во-первых, от смеха, а во-вторых, от страха, как бы за этот смех не поплатиться. В итоге, уговорили официанта завернуть заказ в кулек.
Доели в купе.
Но вечер зрел. А с ним и сон. Перед сном был поцелуй — долгий и сладкий...
Все поменялось… я — ты. Ты — я. Та…
Он заснул не сразу. Веселой дробью распалялась плоть. Романти-
ка овладевала мыслью, ища затерянный экстаз. В содружестве с хмелем ей это удалось без боя. Засыпал счастливый и влюбленный. И уже не видел, как долго и нежно я наблюдаю за тобой — спящим, вздрагивающим и беспомощным, Сережа.
Шматком строганины угрюмился месяц, а бирюза влажно сверкала из темноты, и губы грустно повторяли все те же два коротких слова…
...Разбудил дикий крик. Сначала не понял. Потом различил очертания. Дошло: купе. Память быстро доклеила остальное.
Она прижалась к стене: затравленный зверек. В глазах стыл лунный ужас. Видимо, тоже только-только начала ориентироваться.
Я выразил сопереживание: «Что-то страшное приснилось»?
Ее тело выгнулось в зябкой вибрации.
«Напали, да? Кто: вампиры, бандиты»?
«Белки напали»!
Категорически серьезный, неприступно трагический тон Людмилы не допускал и мысли, что кто-то в природе способен сравниться с кошмаром по имени «белки».
Тишь ночи расконопатил долгий гогот. Чуть позднее присоединилась она — серебристая трель клавикорда. Прижавшись, мы сидели на ее диване...
...Утром едва не проспали станцию. Ее.
Сборы в темпе «полундра». Он все время ластился, норовил поцеловать. И требовал адрес. Достала карандаш, впопыхах начеркала каракули на… Оказалась изнанка билета. Его.
Неужели так и не узнал? Он прав. Ты была такой идиоткой. Как бы напоминанием (о той) не спугнуть снова...
Твоя станция? Прощальный поцелуй… Он не сразу разневолил путь на перрон.
Все так просто и сложно!
Моя — следующая.
Долго не мог унять дрожи. Я влюбился?! А как же адрес, спохватился вдруг, но, увидев билет, успокоился. Что там она накарябала? Ну, и почерк! Такие каракули я видел только в школе. Была, понимаешь, одна Люсьена, самарская соученица. Для нее все сложное было просто. А для этой... все наоборот.
«Здравствуй...».
Это мы разобрали, дальше... закорючки то ли адреса, то ли телефона, а может, и то и то. А внизу подпись: «Лю... си».
ЛЮСИ? Еще одно совпадение? Сердце обожгло. И оно выпрыгивает из проруби. Срочно хлопнуть стакан. Хотя бы пива. Остальное разберу после.
Выпив в ресторане прохладного «жигулевского», вернулся в купе.
Вот и Куйбышев. Где билет? Вот. Кладем его в портмоне. Теперь пора — за чемодан.
Из открытого окна дует. Рывками. Портмоне приоткрывается, и что-то взмывает.
Второпях он хватает и, спиною к сквозняку, заглядывает между желто-коричневых корок. Вроде все на месте. Ну, с Богом. На выход. Прощай, вагон.
...Билет метался по багажному отсеку, постреливая единственно внятным словом «Здравствуй»...
***
Этот билет и оказался запавшим в багажный отдел, где прилип и коптился, покуда его не отодрал проводник...
(г. Москва)
 Родился 17.09.1955 г. Сценарист, прозаик, публицист, литературовед. Окончил ВГИК (мастерская Л.Н. Нехорошева и Н.А. Фокиной-Кулиджановой). Автор сценариев документальных картин, 2-х книг и публикаций в периодических изданиях. Лауреат нескольких Международных кинофестивалей. Доцент кафедры драматургии кино ВГИК. Сын писателя Б.А. Можаева.
Родился 17.09.1955 г. Сценарист, прозаик, публицист, литературовед. Окончил ВГИК (мастерская Л.Н. Нехорошева и Н.А. Фокиной-Кулиджановой). Автор сценариев документальных картин, 2-х книг и публикаций в периодических изданиях. Лауреат нескольких Международных кинофестивалей. Доцент кафедры драматургии кино ВГИК. Сын писателя Б.А. Можаева.
В КАНУН ПРАЗДНИКА. СНЫ СТАРОГО ПРИХОЖАНИНА
(этюд-фантазия)
День был снова бесснежным, темным, незаметно перетекшим в ночь. И только под утро пришел сон.
Я стою в соборе на службе. Всенощную ведет наш Патриарх Пимен. По правую руку от меня — древняя схимница Елена, постриженица святого Амвросия Балабановского: маленькая и хрупкая как ребенок.
По левую, чуть одаль — статный мощный старик. Он крестится сразу обеими руками, будто препоясывается туго. Это архиерей на покое. Здесь он проездом в свой дальний монастырь, где живет простым иноком и трудится наравне со всеми.
Впереди стоит старенькая, неизменная на своем месте Анна Иванов-
на. У нее — ясно-голубые, что небо в июньский полдень, глаза и тихий добрый взгляд. Она одета всегда скромно и в то же время по-особому нарядно. Тонкий вкус и чистота отличают ее. Вот эта серо-белая блузка с кружевным волнистым воротником так ей к лицу! Анна Ивановна — внучка последнего царского министра просвещения. Что ей пришлось вынести смолоду, знает только она. А любимая привычка ее — что-нибудь дарить, чем-нибудь делиться. Вот сейчас после службы она подойдет и протянет кусочек хлеба, припасенный от елеопомазания.
Рядом с нею — мой друг Саша, режиссер. Недавно он поставил спектакль-событие по рассказам Федора Абрамова. Саше исполнилось сорок, он отпустил бороду лопатой и скоро уйдет из театра, поступит в храм рядовым алтарником, чтобы не расставаться со службами.
А сзади и немного наискось от меня молится девушка лет шестнадцати: тонколицая красавица с привольным и сильным разлетом черных бровей и глубоким почти неподвижным взглядом. Она вытянулась в струну и напряженно ловит каждое слово службы. Ей хочется взмахнуть, унестись свободно в то не видимое, но чувствуемое пространство без начал и концов.
Да, все мы здесь — навсегда родные и вечные. И мы это понимаем. Потому так теплы и спокойны глаза и лица. И даже вон тот полковник в отставке, навязанный властями как староста прихода и доносящий обо всем, также привычен и вынужденно свой.
Певчие на хорах раскатили, сплавили голоса в едином знаменном распеве — все выше, выше, полней и шире! И всех нас, кроме старосты, проверяющего выручку, будто поднимает под самый купол.
На солею вышел из алтаря Пимен. Благословляет свечами. Мы склоняем головы, а сами словно смотрим на себя сверху…
Наш старец Пимен: строгий-строгий взгляд, отобранные слова. Никогда не говоришь ты от себя, но всегда — от святых Писаний. И эти слова глубоко открывают вдруг содержание именно сегодняшнего дня: смутные дали путаной жизни проясняются, сердце успокаивается. Таково действие твоих бесед, владыко.
Пимен-Пимен, ты испытал в жизни все. Подмосковный юноша с дворянской фамилией Извеков выбрал послушание Церкви в самые трагические годы. Смолоду — тайный посланец в тюрьмы и лагеря к архиереям. Ты развозил тайные письма с размышлениями о том, как выжить, устоять Церкви перед лицом полного разгрома и запрещения.
Тебя написал в своей великой картине «Русь уходящая» Павел Корин. Тебя арестовывали, допрашивали, и ты не выдавал.
Ты прошел страшную войну сержантом-связистом и выжил там, где погибали почти все. От тех лет вынес боевые награды и четыре ранения. А после, настоятелем, селил в Псково-Печерской обители гонимых служителей, монахов-лагерников. При тебе обитель возрождалась как наша духовная крепость. И ты всегда был под особым надзором у властей, вязавших в действии, запрещавших говорить от себя. Но и в плену у них ты старался удерживать то немногое последнее, что оставалось в храмах от духа православного.
Свои тебя тоже не щадили. Сколько грязи, нелепых обвинений, доносов и просто лжи опрокинуто на твое имя нынешними управителями церковной организации. И это было трудней всего переносить. Тебя, строгого монаха, за спиной обвиняли в духовном невежестве и тайном монархизме и прослушивали твои телефонные разговоры. А перед самой кончиной, когда ты болел и почти не выходил, винили уже во враждебности "демократии".
Тебя выставляли корыстным, а ты ничего не имел. Даже келья, казенная квартира, не была твоей. Да и помогал тебе по жизни один-единственный инок Серафим, внук замечательного духовного писателя, катакомбного исповедника Пестова и будущий епископ Новосибирский Сергий. Но шире всего тебя обвиняли в злости и гонениях на передовую мысль церковных деятелей, идущих в ногу со временем. А народ шел и шел к тебе!
В тот день, когда мы расставались, вся площадь и улицы были переполнены. Ехали со всех концов страны только затем, чтобы попасть в собор, попрощаться. Я помню твою отеческую руку, когда прикоснулся к ней губами в последний раз. Она была теплая-теплая и белая, как у живого.
А после тебя везли в Лавру. Везли в стареньком микроавтобусе РАФе без машин сопровождения, почти тайно. Мы рассчитали время, когда проедут по шоссе мимо нашего дома. Тихая старица Елена, ей минуло девяносто два года, надела полное облачение. Поверх камилавки покрылась схимой с вышитыми белым по черному знаками Голгофы, взяла свой суковатый посох, и я повел ее к дороге.
Мы стояли долго и молились. Узнали автобусик только потому, что внутри были три монахини и венок. Машина двигалась небыстро, и сестры успели заметить нас. Приникли к стеклам, заплакали и закрестили матушку. А та в ответ благословила их. Так мы расстались…
Под утро я проснулся, проснулся на миг. За окнами — тьма. К чему бы этот сон?.. Ах, да! Скоро праздник — надо идти на службу…
…Сон вернулся. Это уже не было продолжением, хотя опять я — в том же соборе. Но служит другой, из тех, кто писали доносы на Пимена под псевдонимом «Дроздов» — мальчик с дворянской фамилией, росший не в России и в войну выживший под фашистами-антихристианами, когда в тех церквах гласно просили победы германскому оружию.
Вот он выходит на солею, благословляет свечами. Все опускают головы, сгибают спины. Хор поет красиво, многоголосо. Начинается речь о социальных и материальных успехах и трудностях церковной организации.
Справа от меня стоит броско накрашенная про.....ка. Слева — вчерашний партфункционер, ставший госчиновником. Впереди — низенький толстый приватизатор, а сзади — начинающий бандит-«ка-чек». Всех собрала здесь гнетущая забота о благополучии, здоровье и долгих годах жизни.
На клиросе — тесная группа солидных мужчин со свечками. Это сотрудники спецслужб, по совместительству управляющие страной и ее богатствами. А сзади, в притворе, живо переговариваются забежавшие из любопытства юные наркоманы и гомосексуалисты.
По периметру вдоль стен прохаживаются телохранители двухметрового роста в костюмах и при галстуках. На груди — переговорники. Поверх толпы мужчины профессионально вглядываются в лица собравшихся.
У собора — чуть не взвод омоновцев с автоматами. Один из бойцов застыл на посту у сияющего черного лимузина. Ствол направлен в грудь проходящих. Второй оберегает баки со святой водой во дворе.
А весь город украшен афишами фильма, где модные актеры в подрясниках играют в жизнь монахов, и где от иудина греха до святости — всего шаг. Этот шаг легко доступен любому, буде у кого появится к тому охота. И за это киносъемщикам другой выдал награды…
...Я проснулся вновь. К чему этот сон?.. Ах, да! Скоро праздник, и надо бы на службу...
За окнами просветлело: там сыпал, наконец, снег. Рыхлые крупные хлопья, величиной с добрый пятак, поднимались вверх. И вдруг пришли на сердце стихи Блока:
«Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам,— плакал ребенок
О том, что никто не придет назад».
Игорь КАРЛОВ
(г. Эль-Кувейт, Государство Кувейт)
 Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова, член редколлегии всероссийского ордена Г.Р. Державина литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори».
Лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова, член редколлегии всероссийского ордена Г.Р. Державина литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори».
ПРЕДЧУВСТВИЕ ОСЕНИ
Утро на исходе лета… Оно обещало ясный теплый день — сегодня; а в дальнейшем — погожую осень и, возможно, безоблачную счастливую будущность... Настоянное на бодрящем солнечном свете, это утро было ярким и пряным. Если бы не рычали рядом десятки автомобильных моторов, то в прозрачном воздухе наверняка можно было бы расслышать слабое шипение, подобное шипению перебродившего меда. И до того реальным, до того соблазнительным показался мне звук лопающихся пузырьков в высоком запотевшем стакане лучезарного напитка, что я невольно облизнул суховатые губы: захотелось немедленно выпить утро большими глотками…
Я иду липовой аллеей, растянувшейся вдоль главной улицы нашего городка. Точнее сказать, иду я по благоустроенной обочине, обсаженной крепкими липами средних лет. Левая полоса проезжей части полупуста. А вот правая, попутная мне (по ней, буде Господь управит, за час-полтора можно добраться в сам стольный град Москву), несмотря на ранний час уже плотно забита машинами, которые то с разочарованным подвыванием замирают, повинуясь сигналам виднеющегося вдалеке светофора, то короткими рывками бросаются вперед, чтобы снова надолго застыть на месте, словно кто сторонний резко осаживает их, рванув жесткий поводок.
Такова судьба большинства подмосковных автомобилистов: недоспать, второпях сглотнуть пищевой комок завтрака, но во что бы то ни стало опередить возможных конкурентов, успеть захватить место в медлительной колонне штампованных жестяных улит, дабы, преодолев все дорожные неурядицы, как можно быстрее добраться до столицы и не опоздать, не опоздать на работу!
Меня, пешехода, от крепко стоящих на своих четырех колесах горемык отделяет невысокий (всего-то по пояс) решетчатый заборчик да неширокий (пожалуй, с пяток метров) газончик. Казалось бы, рубеж чисто условный, эфемерный. Но, к удивлению моему, он, словно уходящая в небо стеклянная стена, скрадывал гудение растревоженного роя моторов и почти полностью избавлял от сизого чада выхлопных газов... Этим утром, этим волшебным утром выяснилось, что не сварные металлические решетки, не проведенные городским комитетом по озеленению межи отделяют мой тихий светлый мир от скрежещущего механического мира, а барьер куда более надежный, непреодолимый: прозрачный экран из золотистой фольги — сплава солнца с воздухом.
Да, воздух нынче!.. До того свеж, до того насыщен ниспосланной прямо из космоса энергией, что любого бездельника вдохновил бы на грандиозные трудовые свершения, на стахановские подвиги. Кажется, вдыхаемую утреннюю бодрость не избыть до конца рабочего дня. Да что там — до конца дня! До конца текущего квартала, до конца финансового года!.. Впрочем, не так уж он далек, конец-то года, и по законам какого-то необъяснимого, но непреложного психологического парадокса яркое летнее утро вызвало вдруг воспоминания об утомительных черно-белых вечерах, о беспробудно-сладостной зимней спячке... Эти непрошеные воспоминания о грядущем ненастье поначалу мелькнули вдалеке сухим листочком, сорвавшимся в меланхолическое пике, а вслед за тем чуть не в погоню пустились: у меня за спиной целый взвод листьев-перебежчиков вразвалочку просеменил по асфальту и с заговорщицким шушуканьем метнулся из лета в осень...
Что там ни говори, теплых солнечных дней осталось всего ничего, и потому, когда слетает с дерева сухой листок, начинает казаться, что он не просто отвалился от ветки, повинуясь закону природы, а упал в обморок от одной только мысли о приближении дождей да мокрого снега. Но таких малахольных единицы, куда больше в густых кронах зеленых крепеньких бодрячков, с презрением наблюдающих за своими разнюнившимися соплеменниками, которые нарочито замедленно планируют на землю, плавно кружась и оседая как-то по-женски. Становится ясно, что утомившаяся от летней жары аллейка кокетничает в ожидании живительной прохлады, заигрывает с освежающим ветром и помыслить не может, что через полгода, исстрадавшись под бичами холодных дождей, намучившись в тисках снегов, с тем же нетерпением будет торопить приход весеннего тепла. Ну а пока липы да березы настроены поиграть. И меня не прочь вовлечь в свои забавы, шлепнув прямо по макушке выцветшим листиком.
Что удивительно: их игривое осаливание, которого, думалось, я и заметить не должен был бы, оказывается чувствительным. Выясняется, что сухой лист при воздушной легкости своей все же весом. Что же это за игра такая? Или вовсе не игра? Может быть, это обряд посвящения в рыцари-осеньеры? Или жест природы, хлопнувшей себя по лбу, когда ее осенило, что приближается осень? Или это магический пасс, приобщающий меня к волшебству сегодняшнего утра? В любом случае почувствовать на темени внезапно возложенную летучую корону оказалось приятно и даже весело. Я улыбаюсь. Я бы смеялся в голос, если бы впереди не маячила фигура еще одного прохожего: наверняка, попутчик не поймет неизбывной радости утра, посчитает меня сумасшедшим, всю дорогу станет беспокойно оглядываться, не зная, чего от меня ждать... Оно нам надо?
Мы лучше продолжим тихую игру с липами. Я совсем не против! Вообразим, что никогда листьям-живчикам не лежать безвольно на земле. Забудем о предуготованной им осенью судьбе — превратиться в ошметки забытого лета, истлеть под башмаками и шинами. Не станем думать о том, почему горделивая красота дерев непременно обращается в перегной, который мог бы дать начало новой жизни, но здесь, на асфальте, бесполезен и лишь мешает чистюлям из коммунальных служб.
Давайте веселиться, перестав пугать друг друга известиями о том, что где-то в ближайшем Подмосковье сегодня, якобы, температура воздуха уже опускалась до минус четырех, а на почве отмечались заморозки. Пусть прекратят метеорологи и знатоки народных примет талдычить, будто это первое дыхание Великого Холода, который неотвратимо надвигается, который вот уже у самого порога... Впрочем,
даже если и так, наступающий Холод пока только напомнил, кто повелевает страной, он пока только Холод-хозяин, а не Холод-опричник! Он пока злодействует у соседей, мы же продолжим беззаботно справлять торжество шикарного теплого утра!
Давайте не обращать внимания на то, что при глубоком дыхании изо рта идет парок, особенно заметный в лучах еще не остывшего, еще летнего солнца. Просто мы разгорячены ходьбой — вот и все. Да и парок-то легонький! Не сравнить его с теми клубами пара, что валят изо рта в февральские или январские морозы, когда каждый выдох, вырывающийся из измученной стужей, навечно озябшей и из последних сил гоняющей воздух груди, можно принять за предсмертный.
Сейчас, прозрачным августовским утром, мои легкие чисты, как у младенца, и по-богатырски дюжи. Они расширились до того, что едва вмещаются в грудную клетку, дышат смело, даже с вызовом, словно кузнечные мехи. Они каждую свою альвеолу стремятся напитать озоном, запасаясь теплым воздухом впрок, и это бодрит до того, что не можешь надышаться. С опаской ждешь, что грудь вот-вот лопнет от переполнившего ее кристального воздуха, но все равно, не имея сил остановиться, закачиваешь в себя новые и новые литры кислорода. Рутинный физиологический процесс превращается в таинство, равное по значению таинству бытия, и доходит до тебя, что прервать его — смерти подобно. В самом прямом, суровом значении этих слов.
И этот-то респираторный триумф — в двух шагах от скопища газующих машин! Сколь же мощно веют озоном простые наши липы да березы!
Так и иду я той аллейкой, словно ступаю по створу на миг сомкнувшихся, но уже готовых вновь разойтись миров — самородного и машинного. Справа вознеслась живая стена лесов, слева чадят и скрежещут приземистые жестяные коробчонки, а разделяет две вселенные черта, будто бы проведенная по гигантской линейке простым карандашом,— серенькая асфальтовая стежка, по которой шагает человек. Как далеко предопределено ему продвинуться по этой безжалостно резкой грани? Сколько отпущено ему времени, прежде чем доберется он до перепутья? А там ведь (мудри — не мудри!) придется выбирать… Одно из двух: либо обратиться к естеству, скрыться под мягко шелестящим пологом деревьев и раствориться в природе, либо запереться безвылазно в утробе одного из сердито рычащих механических псов, в чьих остекленевших, залитых тусклой пустотой глазах поминутно разгорается красный огонек затаенной злобы… Или, может быть, однажды ясным утром на исходе лета энергия космоса вдохновит какого-нибудь гения на мысль о необходимости и возможности конвергенции двух враждебных систем?..
Галина МАМЫКО
(г. Симферополь, Крым)
 Родилась в г. Симферополе (Крым) в 1958 г. Выпускница Калининградского ГУ. Трудилась в Крыму учителем, журналистом. Автор рассказов, повестей.
Родилась в г. Симферополе (Крым) в 1958 г. Выпускница Калининградского ГУ. Трудилась в Крыму учителем, журналистом. Автор рассказов, повестей.
ЗАПОЗДАЛОЕ РАСКАЯНИЕ
Посреди базарного гвалта, в суете людской, вдруг что-то тихое, пронзительное схватило за душу. Наташа замедлила шаг. Под музыку Шопена перед глазами вспыхнули картинки детства. Папа играет на баяне. Вдохновенное лицо. Улыбка в глазах. Молодая мама в шелковом синем платье вносит блюдо с виноградом. Гости хлопают исполнителю: «Браво!» Папа подмигивает Наташе. Родители поют…
«Весенний вальс» Шопена на аккордеоне исполняла величавая престарелая дама в шляпке, в кружевной белой блузке, в длинной черной юбке. Она сидела на каком-то ящике, возле ступенек, ведущих в подземный переход. Рядом громоздился футляр от аккордеона. Иногда в груду мелочи на полиэтиленовую подстилку под ноги со звяканьем падала очередная милостыня, и дама произносила в удаляющуюся спину жертвователя: «Сердечно благодарю». Но вот она отставила аккордеон, достала из мешка футляр со скрипкой. «Рондо» Никколо Паганини собрало горстку слушателей и несколько бумажных купюр. Наташа опустила на землю авоську с покупками. «Каприс №24» Н. Паганини — одно из любимых в их семье. Бом-бом… Отдаленный перезвон церковных колоколов вернул в реальность. «Опаздываю уже!» Открыла кошелек — на милостыню для музицирующей нищенки ничего не осталось. Положила два яблока. Бабушка продолжала играть на скрипке. Глаза ее были закрыты. Наташа подняла упавшую с головы незнакомки шляпку, подержала в руках, пристроила рядом с яблоками.
Старушка при близком рассмотрении производила впечатление не-ряшливого человека. Пакля седых волос на плечах. Давно не стриженные грязноватые ногти. Несвежая блузка. У Наташи сжалось сердце. Она вспомнила последние годы жизни мамы, переставшей после папиных по-хорон ходить. Как подстригала ей ногти на руках и ногах, делала неуклюжие стрижки. Приносила в зал цинковую ванну для банных процедур. Но потом ноги мамы отказались ее держать. Чтобы искупать мать, Наташа теперь обкладывала ее, сидящую на диване, клеенками.
«Забегу сюда по пути в церковь и дам ей денег»,— с таким решением заторопилась домой. Но — забыла, и лишь к концу службы вспомнила о своем намерении. Южные сумерки быстро охватывали вечерний город. «Может, завтра она снова придет»,— Наташа собиралась, выйдя из троллейбуса, повернуть в направлении своего дома. Она бросила взгляд в сторону рекламных щитов над перекрестком возле Центрального рынка, вспомнила, какие вкусные котлеты наготовила сегодня на обед. Настроение было хорошее, скорее бы домой. Вокруг люди спешили к семьям после рабочего дня. Никто не смотрел по сторонам, не глядел в лицо друг другу, все были заняты собственными думами, все устали и хотели скорее лечь спать. И вдруг она зашагала туда, где в это время обычно пустынно, а подземный переход уже перегорожен решеткой с замком. Ветерок холодным сквозняком пробегал по голым ногам, забирался под легкое платье. Она поежилась. Опять забыла взять из дома на обратный путь теплую шаль. Предчувствие не обмануло. Еще издали увидела знакомую фигурку. Старушка сидела, нахохлившись, как будто дремала. Аккордеон был спрятан в футляре. Из двух яблок, подаренных Наташей, осталось одно. На асфальте валялся накопившийся за день мусор — бумажки от мороженого, фантики от конфет, банановая кожура. Из-под ног с громыханием катились пивные бутылки. Тощий кот выглянул из-за переполненной мусорной корзины с надеждой на подачку и приветственно промяукал. Со стороны стадиона доносился гул болельщиков. Из открытых окон многоэтажек вырывались приглушенные позывные телевизионных программ, где-то диктор бубнил сводку новостей.
Наташа нерешительно приблизилась. Она не знала, что скажет этой незнакомой женщине.
Услышав шаги, старушка очнулась и громко сказала:
— Наташа, это ты?
— Я,— удивилась Наташа.
— Я тебя заждалась. Пошли быстрее домой. Ноги замерзли.
Наташа озадаченно посмотрела по сторонам. Вдали мелькнул силуэт охранника.
— Я сейчас,— сказала она и побежала к мужчине.
— Аккордеон? До завтра? Хм… Да куда я его спрячу,— ответил тот, и собрался идти дальше. Наташа растерянно оглянулась на свою странную знакомую, перекрестилась и воззвала из глубины души, как обычно это делала в трудных ситуациях: «Господи, помилуй! Господи, помоги!» И чудо произошло. Охранник сказал: «Ладно. Давай уж». Ни он, ни та старушка не могли слышать слов молитвы. Да разве могут окружающие люди слышать чужую душу. Но вот кто мог точно откликнуться, так это Бог. Наташа уже знала, что у Бога прекрасный слух. И более того, прекрасное зрение. Она давно поняла, что в этой жизни может помочь только Бог. Никто иной. И когда Он отвечал на ее просьбы маленькими чудесами, как вот сейчас, она радовалась, но хранила от всех свою тайну. Вокруг был мир тех людей, из которых мало кто догадывался о столь близком присутствии Бога в их жизни. Может быть, поэтому Он не спешил ко многим из них на помощь. А может, они сами Его прогоняли своим равнодушием.
Бабушка крепко оперлась на руку спутницы и застучала перед собой палкой, ощупывая дорогу. «Она слепая»,— поняла Наташа. Дома она усадила гостью за кухонный стол, и они вместе наелись котлет. «Она считает, что я ее дочь»,— думала Наташа, поглядывая на низко склоненную над тарелкой голову старухи. Та ела жадно, пальцем подталкивая куски котлеты на ложку.
— А ты знаешь, я уже забыла, когда в последний раз ела мясо. Да еще котлеты. Наверное, это было, когда я еще сама готовила, и мои глаза были вполне нормальные,— сказала, наконец, старуха.
И одобрительно добавила:
— Тебя как подменили.
Она отодвинула тарелку, положила голову на руки и уснула. Когда Наташа вымыла посуду и приготовила все для купания, бабушка проснулась и сказала:
— Наташа. Ты не представляешь, как стало спокойно на моей душе. Наконец ты перестала браниться, как извозчик.
После купания в цинковой ванночке, переодетая во все чистое, с подстриженными ногтями, бабушка снова, уже до утра, уснула. Внутри мешка под футляром со скрипкой Наташа обнаружила пакетик с документами и письмо:
«Для тех, кто найдет эту записку и прочие причиндалы, а вместе с ними мою мать, прошу меня не разыскивать. Бесполезно. Мне не до нее. Предупреждаю тех, кто рискнет через милицию воздействовать на меня — это тоже бесполезно. Мой новый муж сильно крутой. Ему море по колено. Мафия — она и в Африке мафия. Кстати, по указанному в паспорте матери адресу меня больше не найдете. Там теперь другие люди. Всем чао».
«Наверное, она была пьяной, когда писала. Проспится, будет плакать»,— подумала Наташа и утром пошла к подземному переходу в надежде увидеть там взволнованную тезку.
Торговка семечками на расспросы пожала плечами и принялась жаловаться на цены, бомжей и милицию:
— От бомжей уже весь город провонял. Дышать нечем. Вот кого го-
нять-то надо. А они, менты, за нас, бабок, уцепились, словно за мафию.
По пути на работу Наташа теперь делала крюк. Вновь и вновь приходила на условленное место, слушала сетования торговки семечками. Но автор записки или, как предполагала Наташа, была каждый день пьяна, или написала правду по поводу «бесполезно». И тогда учитель музыки Наталья Викторовна набрала на школьном компьютере объявление: «Наташа! Ваша мама, Светлана Ивановна Казанцева, у меня», а вместо подписи номер телефона. Развесила по городу, разместила в местной газете. Позвонили два раза. Но не те, кто надо.
«Как ей будет плохо, когда она придет в себя и поймет, что натворила»,— ужасалась и жалела Наташа свою тезку.
Бабушка пребывала в полной уверенности, что она дома у родной дочери. Высказала удивление, зачем переехали на другую квартиру и теперь надо заново привыкать к обстановке. «Так вот что означали твои слова о каком-то сюрпризе для меня и новой квартире. Честно говоря, я побаивалась, что под «новой квартирой» ты подразумевала кладбище»,— простодушно объясняла Светлана Ивановна. И продолжала: «Но когда в последний раз вы привезли меня на его драндулете побираться, у тебя был такой добрый голос, что я вдруг почувствовала хорошие перемены. Интуиция меня не обманула».
Внезапное и кардинальное улучшение в отношениях с мнимой дочерью затмили все бытовые нюансы, связанные с изменившейся обстановкой в новом жилище. Фактически, до быта Светлане Ивановне в этой завершающейся жизни, видимо, и без того давно не было дела.
— Наконец, у тебя нормальный голос, без этих твоих истерических интонаций. Я бы даже сказала, что твой голос вообще стал другим. Что значит, очиститься от зла. Я не знаю, в чем причина перемен, но полагаю, это связано с твоим бандитом. Ты вовремя от него избавилась. Или он от тебя, но это не важно, кто от кого. Главное, ты стала другой. И я тебя больше не боюсь. А ведь от криков-визгов человек рискует превратиться в животное. Например, в собаку. Я, кстати, за тебя опасалась. Ты ведь и правда начинала напоминать собаку. Целыми днями лаяла на меня... А сейчас я спокойна,— слышала от своей второй матери Наташа и не противоречила.
Бабушка попеременно играла на аккордеоне и скрипке, и ликовала, что дочь больше не заставляет ее «клянчить милостыню»:
— Я знала, что в тебе заговорит совесть. Я не ошиблась в тебе.
Наташе хотелось расспросить о подробностях жизни своей подопечной, узнать о том, где было получено музыкальное образование, кем приходилось работать в течение жизни, но хоть любопытство и распирало, держала язык за зубами. Одно неосторожное слово — и идиллия для бабушки рухнет. По этой же причине не решалась и расчехлить папин баян.
— Знаешь, там так противно сидеть. Вроде пальцы музыку играют, и музыка чудная, и люди даже иногда что-то хорошее говорят, деньги бросают, а на душе муторно, спина от напряжения болит, ноги стынут,— делилась Светлана Ивановна воспоминаниями о периоде нищенства.
Однажды она с тревогой в голосе спросила:
— А Нинка этим летом снова приедет?
Наташа уверенно сказала:
— Нет.
Новая мама воскликнула:
— Вот это лучшая новость за все последние месяцы!
Наташа не выдержала и полюбопытствовала:
— А почему?
— Ну как почему. Неужто забыла, как твоя распрекрасная дочечка меня подушкой душила? Да ты, небось, как всегда, в своем телевизоре сидела, за закрытой дверью. Вот уж не любила я эту твою манеру — закроешься от меня на все замки, телевизор включишь на полную катушку, и хоть ори не ори, никакой реакции. Словно меня и в живых нет.
— Я про подушку не знала,— честно сказала Наташа.
— Все ты знала. Просто стыдно вспоминать. Ладно. Кто старое помянет — тому глаз вон,— миролюбиво сказала мама.— Ну, так я тебе рассказываю. Уж не знаю, при тебе или нет, она заявила (старушка тоненьким голосом передразнивает внучку): «И когда только бабуля сдохнет?» Это она своему мужу так сказала. А я услышала. И ее спрашиваю: «А тебе-то что, все равно в другом городе живете, я вроде вам не мешаю». А эта кикимора говорит (бабушка снова делает тоненький голос): «Да мне, бабуля, на тебя начхать. Квартира твоя нужна». Говорю ей: «И на что же тебе моя квартира?». Тоненьким голосом: «А я ее продам».— «И что же ты будешь с деньгами делать?» — «Машину куплю. И буду как королева»... Тьфу.
Бабушка замолчала, закрыла глаза. Стало тихо. Через открытую форточку в комнату врывались пересвистывания носящихся по вечернему небу ласточек. Покачала головой и продолжила:
— Я тебе давно хотела сказать. Не люблю Нинку, хоть и внучка мне. Не люблю. Чужая она. Копия твоего первого мужа. Такая же. Глаза завидущие. Натура жадная. С детства мне пакости делала. Из карманов деньги у меня таскала. Сколько с поличным ловила, а ей хоть бы что. Ты учти, Наташа. Она не только моей, но и твоей смерти ждет. Ей квартира важнее матери.
— Мама, а когда же она тебя душила? — спросила Наташа.
— Это когда я болела. Стонала сильно. А ты что-то все злая на меня была. Пенсию мою забирала, а лекарств не покупала. Я у тебя обезболивающих просила. А ты говорила — потом да потом.
Она сделала паузу и подняла палец:
— Между прочим, я сейчас намеренно тебе на совесть давлю. Хоть ты всю эту эпопею с лекарствами отлично помнишь, но уж больно хочется еще раз ткнуть тебя носом в твое дерьмо. Ладно. Что это я. Сама же и начинаю.
Она снова выдержала многозначительную паузу. Вероятно, ей было приятно обнаружить тишину в ответ на свои обличения. Это было для нее явно непривычно, и ей хотелось насладиться подобным сюрпризом. Пошамкала ртом, словно собираясь плюнуть, и продолжила:
— Вот я стонала. А Нинке спать хотелось. Она и давай меня подушкой давить. Только благодаря ее мужу жива осталась. Он подскочил, как заорет на нее (старушка делает грубый, басовитый голос): «Ты что, дура, в тюрьму захотела?!»
Наташа зажмурилась, горло перехватило от подступивших рыданий. Ей было невыносимо жалко одинокую старую женщину, столь необыкновенным образом ворвавшуюся в ее судьбу. И вновь вспомнила то, что терзало душу уже пятый год, с того момента, как в реанимации мама долгим взглядом попрощалась с ней. Она не могла простить себе ничего из того, что позволяла себе в отношении родителей при их жизни. Как огрызалась на их советы, как восклицала с раздражением: «Ну что вы все меня учите! Сама знаю!» Мама любила провожать ее до двери, потом стоять на балконе и смотреть дочери вслед. Но и это порою раздражало. Однажды Наташа принесла в дом купленные за немалые деньги ходунки и объявила: «Ты снова сможешь ходить». Мать с недоверием посмотрела на появившееся перед ней «доробло». Привстала на трясущихся ногах, навалилась всем корпусом на поручни, и ни с места. «Ну же, давай!» — сердито кричала Наташа, выйдя из себя. Ей казалось, что мать притворяется. И лишь когда мама втянула голову в плечи (после того, как Наташа вдруг замахнулась на нее), дочь опомнилась, отшатнулась, забрала ходунки и отнесла в подарок престарелой соседке. И вот этот момент, безобразная картина, как мать втягивает свою коротко стриженную седую голову в плечи, и над ней нависает рука дочери, уже почти готовая ударить,— это стало ежедневным и ежечасным уколом совести в сердце, жгучей болью души.
Она верила в милосердие Господа, верила, что Он, Человеколю-
бец, простил все ее человеческие подлости и слабости, о чем она излила душу на исповеди в церкви. Но жар раскаяния не унимался, видно, по другой причине. Она вспоминала маму и папу, те минуты, когда обижала их грубостью, равнодушием, ранила невниманием. Глубокое сочувствие отчаянию родителей, которого она, как слепая, не замечала на тот период, осознание их внутреннего одиночества рядом с дочерью, вот что не давало покоя, вот что заставляло вновь и вновь всхлипывать в непреходящей, страшной жалости к родителям и одновременно реветь над своей, как она считала, гадкой, нестерпимо мерзкой жизнью.
Пока Наташа пропадала в школе, вела уроки, классные часы, сидела в учительской над заполнением журнала, мама дома в одиночестве плакала. Она, вероятно, плакала всегда, когда оставалась одна. Ибо всякий раз, придя с работы, Наташа обращала внимание на то, какие красные глаза у матери. «У тебя случайно не конъюнктивит, мам? Давай-ка глаза промоем»,— предлагала она. Но мама отмахивалась, озабоченно глядя в только что включенный телевизор, и наигранно бодрым голосом восклицала: «А, не мешай». Наташа знала — телемишуру для мамы в последние годы заменили молитва и духовное чтение. А манипуляции с включением телевизора были попыткой скрыть то, внутреннее, сокровенное, те слезы, те молитвы, которыми мама фактически жила.
Наташа откладывала хозяйственные хлопоты, садилась рядом с мамой и слушала ее воспоминания о прожитом. Эти мгновения, вырванные из распорядка дня, оказались теперь утешением и отрадой.
Она вспоминает их лучшие совместные минуты. Открывает семейные альбомы и окунается в мир радости. Вот они втроем на море. Смеются, окутанные брызгами шторма. Вот мама обнимает Наташу, они на ВДНХ, а на асфальте тень папы с фотоаппаратом в руках. А вот папа купил всем по брикету «пломбира», но порции оказались слишком большими, и пришлось мороженое скармливать голубям. А вот они идут по Калининскому проспекту. Еще несколько шагов и очутятся в ресторане, где стол будет заставлен тарелками с деликатесами, а к черной икре принесут вырезанное в форме лепестков и ажурных бочонков сливочное масло. Мама и папа, по приезду в Москву, любили посещать Калининский проспект по причине самой прозаической. Там был хороший по советским временам выбор необходимых магазинов. Это, собственно, и было основной целью путешествий в Москву-столицу, как центр продуктового и вещевого изобилия. Эпоха советского дефицита вынуждала прибегать к подобным ухищрениям. Но вместе с тем эти семейные поездки были настоящим праздником дружбы для папы, мамы и маленькой Наташи.
Воспоминания кружатся в голове, и кажется, это планета кружится вокруг своей оси, возвращаясь туда, где те же события и люди, планы и мечты... Вспоминается, как по утрам мама будила ее, целовала и щекотала, придумывая для дочери ласкательные имена... Папа учил Наташу печатать фотографии. Они закрывались в оборудованной под фотомастерскую спальне и оказывались в таинственном мире тьмы и света, где начинались манипуляции превращения фотопленок в фотографии.
По мере взросления Наташа как-то незаметно для самой себя стала отдаляться от родителей. Из главных и самых дорогих в жизни людей они превратились для нее просто в родителей, одолевающих своей опекой. Она все время куда-то бежала, чего-то ждала, ей казалось, еще миг, и что-то очень важное для нее произойдет в этой жизни, и все изменится, и она будет счастлива. Заботы и суета, работа и подрастающий сын, многое волновало ее, но родители в этом перечне были далеко не на первом месте. И лишь когда кто-то из них заболевал, Наташа словно просыпалась, волновалась, металась по аптекам, больницам, и возвращалась к самой себе, той, настоящей, любящей дочери.
С отцом и матерью, вдруг ставших в конце жизненного пути старательными посетителями воскресных Литургий, согласилась, не-ожиданно для себя, ходить на церковные службы. Приход к Богу преобразил всю семью. Молитвенное настроение, воздыхания к Господу, говение по средам и пятницам, держание согласно церковному уставу многодневных постов, чтение Евангелия, Псалтири, духовной литературы, слушание духовных песнопений — все это стало для каждого из троих ошеломляющим изменением привычных основ жизни. Они с жадностью потянулись к духовному преображению, и это напоминало ощущения путников в пустыне, обнаруживших после длительных мытарств воду. Возникшее за последние годы отчуждение между дочерью и родителями растаяло. Втроем делали вылазки к морю, совершали перед сном совместные прогулки по парковым аллеям. Она больше не замыкалась в себе и рассказывала родителям истории из жизни учеников, описывала, как прошел очередной день, где была, что видела и слышала. Родители ждали ее к ужину и старались без дочери за стол не садиться. И уже вскоре после кончины отца взяла себе за правило целовать маму перед тем, как выйти из дома. И хотя срывы еще бывали (как эта, не дающая покоя, история с ходунками), ничем не оправданное раздражение на мать нет-нет, да и снова возникало, но теперь победить себя оказывалось легче.
Последнюю неделю жизни матери Наташа пребывала рядом с ней в реанимационном отделении кардиологии. Это были драгоценные часы самого близкого единения с матерью за всю их земную жизнь. На свои попытки просить прощение Наташа встречала материнское ворчание, мол, не говори глупости. Ведь все у нас с тобой нормально.
— Мамульчик, случалось, я на тебя кричала, я себя так плохо вела, ты не обижайся, ладно,— Наташа не могла выразить этими грубыми, холодными словами то горячее, то всеохватывающее внутреннее чувство раскаяния, каким ежеминутно пылала ее душа. Ей особо хотелось сказать о том постыдном случае с ходунками, но язык даже не мог выговорить, настолько тяжело было это вспоминать. Но в глазах матери она видела такую любовь, что слова замирали на губах, и она просто стояла на коленях рядом, прижавшись лицом к маминой ладони.
За сутки до кончины мама попросила привезти священника и причаститься. После Причастия она словно ожила, голос ее окреп, и врачи стали надеяться на поворот к лучшему. Она сказала Наташе:
— А ведь благодаря тебе мы с твоим папой пришли к Богу.
— Как это? — удивилась Наташа.— Я ведь к Богу пришла лишь благодаря вам.
Мама объяснила:
— Мы переживали за тебя. Твое отчуждение вносило в нашу жизнь тоску. Однажды на прогулке ноги как-то сами собой привели в церковь. Не сговариваясь, мы поверглись перед Распятием на колени, прося помощи у Бога, в которого и верили, и не верили.
...Наташа вздрогнула от телефонного звонка, оборвавшего воспоминания.
— Мама, может, все же, я приеду и заберу к нам? Что ты одна да одна,— уговаривал в очередной раз по телефону сын.
— Нет-нет, я никуда не поеду,— отвечала Наташа и оглядывалась на дремлющую Светлану Ивановну.
Иногда Наташе чудилось, что новая мама начала догадываться, кто есть кто, но не подает вида. И тогда она придумывала отвлекающие маневры в виде подарков — вязаные носки, вкусные пирожные… Ей не хотелось, чтобы Светлана Ивановна узнала правду, не хотелось, чтобы разочаровалась в другой, родной дочери, пусть на этот момент и плохой. «Когда-нибудь ее дочь обязательно опомнится и будет рыдать, и будет терзаться не только до гробовой доски, но и в загробной жизни, и это еще страшнее, это навсегда»,— думала Наташа и поднимала глаза к небу.
«Я встретил вас, и все былое…» — пели вдвоем — теперь уже с но-
вой мамой. «Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно, так светло». Им было светло. Каждая из них вспоминала свое. Они не называли вслух то, о чем думалось. Но на лицах у обеих было написано — это те, одни из лучших дней былого. У каждой — свои. «Не уходи, не уходи… Восторг любви нас ждет с тобою, не уходи, не уходи». Жизнь с ее сегодняшними заботами отодвигалась за шторы, в ночь, за окно. А тут, под старомодным абажуром, возле вынутого из чулана самовара, вместе с чаем кипели воспоминания, и что-то стучало в души, словно сама жизнь повернула вспять. Сейчас откроется дверь, и кто-то скажет знакомым голосом: «Ну-с, дамы и господа, а не хотите ли в театр?» Ах, где ты, юность, где вы, романтика и чистота ушедших неведома куда лет и зим… Наташа с грустью вспоминала глупости своей жизни, развод, одиночество, как папа и мама помогали ей воспитывать сына…
Встряхивала головой, чмокала перед сном новую маму и шла в свою комнату читать молитвенное правило. Но вместо того, что было написано в молитвеннике, ее сердце взывало своими словами: «Господи, дай ей счастья. Пусть она будет счастливой. Пусть она будет жить еще долго-долго!» Ее импровизированная молитва сливалась с плачем, и уже ничего не видя от слез, она долго делала перед иконами земные поклоны, умоляя Господа упокоить души ее родителей. Она обращалась, как к живым, к папе с мамой, оглядываясь на их фотографии на противоположной стене, изливала им свое, с запозданием, очнувшееся сердце, умоляла простить ее, рассказывала о том, как казнит себя и как скучает по ним... В этом страстном шепоте, горячечном лопотании она, уткнувшаяся лицом в колени, сотрясающаяся от сдерживаемых рыданий, походила на безумную. Она верила, что родители в этот момент ее слышат, и от этой веры приходила в еще большее исступление, питаемое радостью небесной встречи и тоской земной утраты одновременно. В этих воплях души она отдавала родителям свою дочернюю любовь, которой так скупо делилась с ними при жизни. И долго слышалось в ночной тишине бормотание «Господи, помилуй!» и стук коленей и лба об пол. И далеко где-то в ночи заунывно выла, портила всем сон тоскующая о чем-то своем уличная собака.
«Отговорила роща золотая березовым, веселым языком…» На склад-
ной скамейке сидел старик с баяном и пел романсы. Перед ним лежала фуражка, на дне которой блестело несколько монет.
— У тебя есть деньги? Положи ему побольше,— сказала мама.
Они шли по осеннему парку.
— Я тебя никому не отдам,— сказала Наташа.
— Я знаю. Наконец ты стала прежней, как в детстве. Когда мы с тобой дружили,— ответила мама.
Она крепко опиралась на руку Наташи.
— Как хорошо-то, а? — вдыхала мама полной грудью воздух.
Наташа вынула из кармана клочки отодранных от столбов объявлений («Ваша мама, Светлана Ивановна Казанцева, у меня») и швырнула широким жестом, словно сеятель над полем.
— Настоящий запах осени. Листья под ногами. Я слышу, как они шуршат,— сказала мама.
Елена СТРИЖАК
(г. Полоцк Витебской области Белоруссии)

Родилась 08.07.1941 г. в д. Савченки Витебской обл. Инженер-экономист. Работала начальником отдела труда и заработной платы строительно-монтажного треста в г. Сургуте Тюменской области. Ветеран труда. Печаталась в периодических изданиях и коллективных сборниках, автор 10 книг. Участник народного литературного объединения «Полоцкая ветвь».
ПОДВИГУ КЛАНЯЮСЬ НИЗКО…
Это было два года тому назад. Я возвращалась домой от подруги из микрорайона Мариненко автобусом. Рядом со мной сидела молодая девушка, видимо, студентка, приехавшая из деревни. Она внимательно рассматривала пробегающие за окном силуэты домов.
— Скажите, пожалуйста, вы давно живете в этом микрорайоне? —спросила я девушку.
— Нет, недавно. Мы с подругой снимаем здесь квартиру, готовимся поступать в институт.
— А знаете, почему этот район, где вы поселились, называется Мариненко?
— В школе нам рассказывали, что Полоцк — очень древний город. Я видела на перекрестке памятник князю на коне. Наверное, Мариненко тоже был князем.
Такой ответ меня шокировал. Конечно, с тех пор выросло не одно поколение, но историю города, где живешь и героев войны, наших земляков, нужно знать.
— Татьяна Савельевна Мариненко — Герой Советского Союза. Она была в годы войны связной партизанского отряда. Вас как зовут? — спросила я попутчицу.
— Марина. Мне очень интересно. Расскажите, пожалуйста, о ней,— попросила девушка, повернувшись ко мне.
— Таня Мариненко родилась в многодетной семье 25 января 1920 года на хуторе возле деревни Сухой Бор. Она закончила 7 классов, позже — педагогическое училище в Полоцке. Ее направили работать учительницей начальных классов в Зеленку. Стройная, красивая, с длинными косами и очень добрыми глазами,— такой запомнили Таню земляки. А куда вы едете, Марина? — поинтересовалась я.
— Хотела побывать в Софийском соборе,— ответила девушка.
— Тогда сойдем на остановке возле Дома культуры завода «Стекловолокно», пойдем до собора по парку и я вам расскажу подробнее о подвиге Тани Мариненко. Мы с вами, Марина, живем благодаря всем тем, кто воевал, погибал и выживал в тех адских условиях, когда невозможно было выжить.
— Согласна. Пойдемте пешком. Так хочется узнать, кто такая Татьяна Мариненко и за что ей было присвоено звание Героя Советского Союза.
Мы с Мариной медленно шли по аллее, легкий ветерок теребил кроны деревьев, и я продолжала рассказ.
— Савелий Кузьмич, отец Тани, первым услышал по радио, что началась война, сообщил об этом жене, детям и соседям. Жители деревни, узнав о вероломном нападении немцев, вышли на улицу хмурые и взволнованные. Позже — услышали взрывы, это враги бомбили Полоцк.
Таню мучила неизвестность. Что делать ей, комсомолке, учительнице? Как бороться с врагами? Через пару недель вечером Таня сказала матери:
— Завтра пойду в Полоцк.
Таня медленно брела по городу и не узнавала его. Разрушенные дома, улицы. Вдруг увидела фашистов, они шли с автоматами наперевес и громко смеялись. Боль и ненависть к врагам наполнили сердце девушки. В городе Таня встретила Павла Гукова, он до войны работал инспектором районо. На следующий день вечером собрались на краю картофельного поля возле деревни Зеленка человек двадцать. Павел оглянулся кругом, заговорил:
— Потолкуем о деле, друзья. Немцам пора напомнить, что им здесь хозяйничать не дадут. Я думаю, вы согласны со мной. Поручения найдутся всем. Задания буду передавать через Таню Мариненко, она станет связной,— Павел обратился к девушке.— И назовем тебя Васильком. Первое задание всем — собирать и прятать оружие, патроны, гранаты.
Ночью Таня долго не могла уснуть.
…Связная Василек… Что ей придется выполнять? Может, будет участвовать в боях? А что могут сделать несколько подпольщиков против жестокой немецкой силы?
Прошло несколько дней. Павел пришел к семье Мариненко, поговорил со старшим братом Калистратом, потом сказал Тане:
— Завтра пойдешь в Полоцк к Суховею Степану Васильевичу, он был до войны заведующим районо, теперь работает у немцев бургомистром. Не пугайся, он — подпольщик. Передай ему, что арестованы по доносу предателя Хоружего коммунисты Величко, Козлов и Гавриленко.
Таня вернулась домой поздно вечером. Отец сказал, что арестовали старшего сына. На следующий день Тане разрешили свидание с братом. В коридоре тюрьмы к ней подошел офицер в гитлеровской форме:
— Не бойтесь, я советский офицер, лейтенант Парамонов. Перед войной окончил институт иностранных языков. В бою под Смоленском меня тяжело контузило, очутился в лагере военнопленных, служил у немцев переводчиком, теперь здесь работаю. Я присутствовал на допросе вашего брата, он ничего не сказал, скоро его отпустят домой.
— Спасибо за хорошую новость, но я не понимаю, что вам нужно от меня?
— Я ищу партизан, чтобы помочь им, хочу убежать от немцев. Поверьте мне, вот список агентов немецкой разведки, возьмите его, — и он почти насильно положил в карман Тани документы.
Руководство подполья проверило сведения по этому списку, все совпало…
При захвате сел и городов немцы требовали от местных жителей сдать оружие и радиоприемники, грозя расстрелом. Таня, ее братья Калистрат и Лаврен собирали оружие, слушали по радиоприемнику новости из Москвы, расклеивали листовки, призывая бороться с фашистами.
Постепенно активизировались действия подпольщиков. Весной 1942 года начала действовать партизанская бригада «Неуловимые», в которой Таня руководила одной из ее разведывательных групп.
Однажды на станции Горяны немцы обнаружили цистерну с винным
спиртом, часто ходили туда, пробовали хмельной напиток. Железно-
дорожники ночью подцепили к эшелону на Варшаву эту цистерну, а на ее место загнали цистерну с метиловым спиртом. Для многих фашистов на следующий же день та выпивка была последней, тот напиток, метанол, по внешнему виду напоминающий вино, был смертельным ядом.
Лейтенант Парамонов выкрал и передал Тане секретную книгу с планами передвижения немецких войск. Фашисты сбились с ног, разыскивая подпольную организацию, которая проводила диверсии. Исчезали немецкие солдаты и офицеры, был взорван мост через Западную Двину, началась рельсовая война. За поимку Василька немцы обещали 10000 марок и железный крест, но агент был неуловим. В феврале 1942 года немцы арестовали Парамонова, обвинив его в краже важных секретных документов. На допросах он не выдал никого. Его расстреляли.
В апреле — мае 1942 года фашисты арестовали десятки людей, оккупантов беспокоила активизация партизанских действий в районе Полоцка. Немцы дорожили Полоцком как наиболее важным железнодорожным узлом, скрещением шоссейных дорог, здесь же формировались фронтовые части. В окрестные села и леса были направлены карательные экспедиции для уничтожения партизан. Руководство отряда изменило тактику — вывезли из города в леса большинство людей, а в Полоцке оставили наиболее опытных подпольщиков для сбора разведывательных сведений, распространения агитационной литературы и проведения диверсий.
Все труднее стало Тане пробираться в Полоцк. Немцы перекрыли все дороги, на каждом шагу заставы, патрули, только и слышно: «Хальт! Документ!» Таня подумала: «Может, предложить командованию свернуть связь с городом до лучших времен? Но ведь когда наступят эти лучшие времена, тогда мои сведения разведчицы связной уже не так будут нужны. Они нужны именно сегодня, когда каждый день — бой, когда решается судьба самой трудной войны…»
Она надела старенькое платье, набросила на голову темную косынку, взяла в руки хозяйственную сумку и отправилась в город. Получив сведения, касающиеся дальнейших планов карательной экспедиции, она спешила в отряд Гукова. Передала документы и попросила оставить ее на боевых позициях в отряде.
— Обойдемся здесь без тебя. Ступай в Зеленку, завтра снова попробуй наведаться в Полоцк, к тому человеку и то, что он передаст, принесешь в отряд. У тебя, Танюша, другая передовая — агентурная разведка. А это гораздо сложнее, когда кругом враги, а ты одна,— с
возбуждением ответил на ее просьбу Гуков.
… Так ей и не довелось взрывать эшелоны, ходить в засады, убивать в открытом бою фашистов…
В тот же день по доносу предателя Таню арестовали. Со связанными руками немцы привели ее в деревню Зеленка. Арестовали группу местных жителей, среди них был младший брат Тани — Лаврен, которому недавно исполнилось четырнадцать лет. Допрашивали Таню три офицера СС. Немцы обещали ей сохранить жизнь, предлагали большую сумму денег и железный крест. Таня молчала. Когда один офицер подошел к ней ближе, Таня плюнула ему в лицо. Резкий удар отбросил ее к стене, она потеряла сознание. Когда пришла в себя, ее бросили в хлев, где сидели арестованные односельчане. У брата Лаврена все лицо было в синяках.
— Танечка, ты не думай, я ничего им не скажу!
В фашистском застенке Таню пытали: разрезали грудь, поломали пальцы, выкололи глаза. Она очень хотела сообщить партизанам имя предателя. В соседнюю камеру, когда еще были целы руки и глаза, она выстукивала, а когда уже не могла, то попросила соседку по камере написать имя предателя на стене.
Утром фашисты перетащили Таню в хлев и бросили к арестованным односельчанам. С их помощью Таня еле поднялась на ноги. Немцы заранее выкопали могилу и поставили на ее краю двадцать девять человек. Крепко обхватила Таня брата Лаврена и крикнула врагам:
— Будьте прокляты!
Затрещали автоматы, падали люди…
Так погибла Татьяна Савельевна Мариненко. Ей шел тогда двадцать второй год…
Я закончила свой рассказ. Марина молча шла рядом.
Когда мы пришли к Софийскому собору, она спросила:
— А где можно увидеть памятник Тане Мариненко?
— В 1988 году по инициативе райкома комсомола начался сбор средств на строительство памятника Татьяне Мариненко. Памятник-бюст установлен около школы в деревне Зеленка, возле педучилища в Полоцке и на ее могиле в деревне Козьи Горки Зеленковского сельсовета. Но главный памятник в Полоцке — это улица и микрорайон, которые носят имя героини — Татьяны Савельевны Мариненко.
Я простилась со случайной попутчицей возле Софийского собора, она обещала рассказать своим подругам о подвиге разведчицы Тани Мариненко во время войны.
Николай ТИМОХИН
(г. Семипалатинск, Казахстан)
 Родился в г. Семипалатинске. Закончил филологический факультет Семипалатинского пединститута. Член СПР, Союза журналистов России, Всемирной корпорации писателей (председатель казахстанского отделения). Автор 14-ти книг стихов и прозы, вышедших в Казахстане, России и Канаде. Зам. главного редактора по международным литературным связям, авторского литературного журнала «Северо-Муйские огни» (Бурятия, Россия). Член редколлегии многих журналов России и Белоруссии. С двадцати лет пишет стихи. Награжден многочисленными грамотами, благодарственными письмами и дипломами России, Белоруссии и Германии. Проза и стихи Н. Тимохина были многократно опубликованы в литературных изданиях многих стран. С новыми произведениями автора вы можете ознакомиться на сайте www.timohin63.narod.ru Самую подробную информацию об авторе читайте на http://proza.kz/ru/profile/nikolai_timohin.7823/about
Родился в г. Семипалатинске. Закончил филологический факультет Семипалатинского пединститута. Член СПР, Союза журналистов России, Всемирной корпорации писателей (председатель казахстанского отделения). Автор 14-ти книг стихов и прозы, вышедших в Казахстане, России и Канаде. Зам. главного редактора по международным литературным связям, авторского литературного журнала «Северо-Муйские огни» (Бурятия, Россия). Член редколлегии многих журналов России и Белоруссии. С двадцати лет пишет стихи. Награжден многочисленными грамотами, благодарственными письмами и дипломами России, Белоруссии и Германии. Проза и стихи Н. Тимохина были многократно опубликованы в литературных изданиях многих стран. С новыми произведениями автора вы можете ознакомиться на сайте www.timohin63.narod.ru Самую подробную информацию об авторе читайте на http://proza.kz/ru/profile/nikolai_timohin.7823/about
ЭКЗАМЕНОВ НЕЛЕГКАЯ ПОРА
Я с раннего детства имел непреодолимую тягу, к литературе. Постоянно что-то записывал, сочинял и, конечно же, много читал. А закончив восьмилетку, твердо решил поступить в местный пединститут на филологическое отделение.
И это желание стало моей мечтой. Наверное, она никогда бы не воплотилась в реальность, если бы не удачное стечение обстоятельств, которое можно с уверенностью назвать — судьбой.
После школы, я поступил учиться в училище. А в то советское время, сплошь и рядом, открывались «школы рабочей молодежи». Где ученикам, после их трудового дня, усиленно и целенаправленно давалось среднее образование. И происходило все это именно так, как показано в известном фильме «Большая перемена». Кстати, в нем один из героев Пьер, участник «аттракциона неслыханной жадности», которого играл С. Крамаров, носил фамилию — Тимохин.
И вот примерно в такой школе, после основных занятий в училище, я и учился. Надо сказать, что вся эта затея мне тогда нравилась. А учителя нам говорили, те из вас, кто не будет пропускать занятия, получат аттестаты зрелости с хорошими отметками. То есть посещаемость в вечерней школе, как она называлась «в народе», была главной!
И я старался занятия не пропускать. А по окончании всего курса обучения получил обещанный учителями аттестат — с одной лишь «тройкой» — по «астрономии». Помню, как я тогда сильно расстроился. Ведь я этот предмет совсем не изучал. А за что тройка?
За несколько месяцев до службы в армии, я посещал подготовительные курсы для поступления в пединститут. От них у меня мало что осталось в памяти.
А когда, отслужив положенные два года, я пришел в приемную комиссию, у меня на руках был аттестат о среднем образовании, с высоким проходным баллом, играющим существенную роль при конкурсном отборе в институт.
Кроме того, положительным фактором служило и то, что я парень. А в пединститут, да еще и на филфак, мужчин принимали с радостью. К тому же я только что демобилизовался из рядов СА. А тогда отслужившим юношам были открыты двери во многие учебные заведения, куда можно было поступить на льготных условиях. И, вдобавок ко всему, я был кандидатом в члены КПСС.
Одним словом, я был абсолютно уверен, что поступлю в пединститут, и сильно-то не обременял себя подготовкой к вступительным экзаменам. Хотя ей и должны заниматься все нормальные абитуриенты.
Конкурс в то время был два человека на место. И чем меньше оставалось времени до начала экзаменов, тем больше я задавался мыслями о том, как же я буду состязаться знаниями с теми, кто недавно окончил школу? К тому же я поступал на заочное обучение. И часть абитуриентов уже работали в школах, например, в сельских. Короче говоря, их уровень подготовки, скорее всего, был лучше моего.
Первым экзаменом было, конечно же, сочинение. И основной «отсев» должен произойти после него. Это я понимал, слава Богу. И заняв свое место в аудитории, сразу же для себя решил — писать короткие, нераспространенные предложения. Использовать, по возможности — простые слова. Мысли излагать — коротко и ясно. А главное — взять «свободную» тему, если она будет!
Ей оказалась примерно такая тема: «Как Вам представляются уроки русского языка в недалеком будущем? В чем их отличительные особенности от учебного процесса наших дней?» Ну, фантастикой в то время увлекались многие. И я не исключение — читал книги и любил фильмы на эту тему. Одним словом, сочинение написал. А часть из тех, кто выбрали другие темы — «отсеялись». Но тому, что «первый блин» для меня не оказался «комом», я сильно не радовался.
Лишь тогда я прочувствовал по-настоящему, что поступаю в институт и то, что могу «провалить» второй и самый главный экзамен — «Русский язык и литература. Устно».
За длинным столом, в большой аудитории, строго восседали два преподавателя по русскому языку и совсем еще молодая, очень симпатичная, экзаменатор по литературе. Я взял сразу два билета по разным предметам. И сел готовиться. Наверное, к тому, что осенью и зимой мне придется снова походить на подготовительные курсы, а на следующий год, если все будет хорошо, попытаться поступать в институт.
— Молодой человек, вы готовы? — вскоре услышал я от преподавателя по литературе.
— Да, да, сейчас. Еще немного…
Если в билете по русскому языку, я и находил что-то мне знакомое, то с литературой, я понял, у меня будет — провал!
В «вечерней школе» я, естественно, получил только отдаленное представление о таких книгах как «Тихий Дон», «Война и мир», «Братья Карамазовы» и т.д.
Что-то написав на двух листах, для каждого предмета в отдельности, я выждал момент, когда место у экзаменаторов русского языка освободится, и сел перед ними.
О результатах моего скудного ответа они мне сразу ничего не сказали. И я передвинулся к преподавателю литературы. Она, опустив голову, очень внимательно слушала мою речь. А потом тихо сказала:
— Молодой человек, у вас по моему предмету — но-о-оль! — и, помолчав, добавила: — Я не знаю, что делать…
Но, тем не менее, она, чуть пододвинувшись к рядом сидящей коллеге, спросила:
— Как у вас Тимохин ответил?
Женщина слегка стушевалась:
— А в чем дело?
— По литературе у него будет «двойка»! Мне надо знать, что он у вас получит.
Экзаменаторы спешно стали просматривать бумажку с моей писаниной.
— Если и у вас он ответил плохо,— чуть слышно продолжала литераторша,— то он сейчас же покинет аудиторию.
Достойны ли были мои знания отметки «три», или у русоведов на этот счет были какие-то свои мысли, но они дали своей коллеге положительный для меня ответ.
Тогда моя экзаменатор, опустив глаза в стол и прикрыв их ладонью так, словно ей мешал яркий свет, опять же тихо произнесла, только обращаясь уже ко мне:
— Пишите то, что я вам сейчас продиктую…
— Что?— не сообразил я.
— Молодой человек, вы что, не понимаете? У вас по литературе будет «двойка»…Записывайте все, что я вам продиктую…
За моей спиной в аудитории сидело еще несколько человек. А я, спешно и плохо соображая, поразборчивее писал… Результаты экзамена стали известны только на следующий день. И, как и подобает в таком случае, после них, еще несколько абитуриентов — «отсеялось».
Последним моим испытанием стала — философия. На нее, после всего ранее происшедшего, мне можно было точно не ходить.
Чуть больше месяца прошло с моего «дембеля». Конечно, я, прежде всего, морально не был готов к поступлению в институт. Моя служба проходила в новосибирском лесу, на командном пункте, под землей. На глубине метров десяти. Бывали случаи, когда я на свежий воздух не выходил неделями. Ел и спал на боевом посту. И, вернувшись в родные пенаты, в свой город, я, естественно, как «с луны свалился». Цивилизация, город, люди!
Зайдя вместе с остальными будущими студентами в небольшую аудиторию, я положил на стол перед преподавателем свой экзаменационный лист. С портретов на стене, без особой радости, на меня смотрели Гегель и Кант. Билет я пока брать не спешил.
— А вы что у нас — солдат? — неожиданно раздался у меня за спиной голос экзаменатора.
— Да, я недавно уволился из армии.
— Вот оно как? И где же вы служили? — спросил мужчина, пока я садился за свободный стол, недалеко от него.
— В Новосибе, в ЗРВ, в ПВО. Планшетистом.
Не знаю, понял ли экзаменатор мой ответ, но далее он восторженно сказал:
— Так вы любите русский язык и хотите стать учителем?
И, получив от меня утвердительный ответ, добавил то, что могли услышать все присутствующие:
— Тогда, вам нет смысла, беспокоиться. Мой предмет вы сдадите. Точно.
Может быть, экзаменаторы и должны заранее настраивать абитуриентов на хороший лад. И такие слова они говорят всем, но для меня они прозвучали, как выстрел в ночи!
Теперь уже Гегель и Кант со своих портретов смотрели на меня как на доброго знакомого. И казалось, что они были рады за меня.
Взяв билет, я что-то возбужденно, но уверенно, рассказывал преподавателю. Он в ответ кивал и комментировал мои слова. Со стороны все это больше походило на доверительную беседу, а не на сдачу экзамена по философии.
Свою вторую четверку за экзамены, как и было мне обещано, я получил. А две тройки, за памятную сдачу русского языка и литературы, плюс высокий проходной балл в аттестате зрелости, от вечерней школы, сделали свое доброе дело, выдав мне «путевку в жизнь». Так я стал студентом семипалатинского пединститута, по специальности «учитель русского языка и литературы».
Много с тех пор «воды утекло». На протяжении ряда лет, я работал в различных учебных заведениях. И благодарен судьбе за то, что когда я поступал в институт, она была столь благосклонна ко мне. И, конечно же, никогда не забуду бескорыстную доброту экзаменаторов, чьи имена в моей памяти, к сожалению, не сохранились…
(г. Москва)
 Родилась в Москве. В 1981-м г. окончила Московский библиотечный техникум по специальности «Библиотековедение». Работала библиотеарем, секретарем-референтом, методистом. Пишет прозу, бардовские песни и исполняет их. Любит фотографировать на любительском уровне. С 2009-го года работает оргсекретарем в Академии российской литературы.
Родилась в Москве. В 1981-м г. окончила Московский библиотечный техникум по специальности «Библиотековедение». Работала библиотеарем, секретарем-референтом, методистом. Пишет прозу, бардовские песни и исполняет их. Любит фотографировать на любительском уровне. С 2009-го года работает оргсекретарем в Академии российской литературы.
КОМАНДИРОВКА
— Майка, запасная рубашка, трусы, носки, зубная щетка…— Волчонок Канис с беспокойством наблюдал за хозяйкой. Та не обра-щала на него никакого внимания, продолжая методично складывать большую сумку.— Фляжка с коньячком в дорогу, сигареты, презерва-тивы.
— С ума сошла! — подскочил к сумке хозяин.— Какие презервативы?
— У вас компания из трех командировочных?
— Да.
— Значит банька, девочки… Как всякая хорошая жена, я должна заранее позаботиться о муже,— давилась смехом хозяйка.— Санкт-Петербург — город контрастов и красивых северных женщин.
Канис начинал смекать — дело нечисто. Хозяева куда-то собра-лись. На всякий случай лег у двери, внимательно наблюдая, не скла-дывают ли в сумку намордник, поводок? Не вытаскивает ли хозяйка фотоаппарат? Она всегда его с собой берет. Ничего такого не было.
— Может, чего не заметил? — суетился Канис, шлепая за хозяй-кой шаг в шаг, пока она не споткнулась о него и не рявкнула: «Канис! Уйди с дороги. Дай сумку собрать. У меня времени всего полчаса. Неожиданность у хозяина случилась. С работы и на поезд». Но Канис не отступил, ткнув холодным носом ее ладонь, встал перед ней, заглядывая в глаза.
Разыгрались кошки. Начали носиться между всеми по квартире, шастая между ногами людей и собаки.
— Дуры полосатые,— надул губки Канис и для острастки погнал старшую Джойку на балкон. Пусть охладится. Ее тут не хватало! Когда вернулся в комнату, обнаружил младшую Ульси в сумке, восседающей на фляжке с коньяком.
Хозяйка не знала за что хвататься: то ли за сердце, то ли за сумку, то ли помогать натягивать куртку мужу. Судя по всему, она никуда не собиралась. Канис выдохнул. Замок щелкнул. Хозяин с сумкой вышел за дверь. Вот тут он понял. Вожак ушел, теперь он за старшего. Для начала обошел всю квартиру, на всякий случай погонял Джойку, в кухню и обратно, проверил, чем занимается младшая кошка. Та гоняла по полу пробку от коньяка.
— Ночью буду спать на диване,— решил пес.— Рядом с хозяйкой.
Кошки каждую ночь валяются на хозяйских подушках, а ему только днем позволено.
Вечером хозяйка достала постель.
— Сейчас раздвинет диван, и сразу лягу,— нацелился Канис.
Но не тут-то было. Хозяйка словно прочитала его мысли, по-вернулась и сказала:
— Диван раздвигать не буду! Ты, серая морда, точно пристроишь-ся,— и улеглась на узенькую полоску.
Канис и с одной стороны ее обошел, и с другой… поставил на край дивана лапы, попытался взгромоздиться рядом, но места явно не хватало.
Пришлось спать на коврике. Но ему все равно было хорошо, потому что хозяйка целый вечер только с ним и занималась. Все ее внимание досталось ему. А то каждый вечер одно и то же: миску Канису, миску мужу. Поцеловала одного, потом другого. Погладила по головке хозяина, потом его.
— Пусть его в Питере красивые северные женщины гладят, а нам с хозяйкой и тут хорошо,— удовлетворенно вздохнул Канис, крепко засыпая.— Командировки вещь хорошая. В следующий раз сам буду ему сумку собирать. И кошек надо с ним отправить. Туда же к краси-вым северным женщинам.
Ирина НИКОЛЬСКАЯ
(г. Алексин Тульской области)
 Полынкина Ирина Юрьевна (Ирина Никольская) родилась 23.06.1962 г. в г. Алексине. 25 лет работает в отделе соцзащиты населения по Алексинскому р-ну ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области». Публикуется в газете «Православный Алексин», в литературно-музы-кальном альманахе «Ковчег» (г. Тула). Православные статьи пишет по благословению протоиерея Андрея Чекмазова — Благочинного Алексинского округа.
Полынкина Ирина Юрьевна (Ирина Никольская) родилась 23.06.1962 г. в г. Алексине. 25 лет работает в отделе соцзащиты населения по Алексинскому р-ну ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области». Публикуется в газете «Православный Алексин», в литературно-музы-кальном альманахе «Ковчег» (г. Тула). Православные статьи пишет по благословению протоиерея Андрея Чекмазова — Благочинного Алексинского округа.
Оглядываясь назад, в прошлое, хочется отметить, что Господь, наверное, промыслительно привел меня в определенный период жизни в управление социальной защиты населения Алексинского района.
Работа оставила отпечаток на моем характере. Это были 90-е годы. Огромный поток населения проходил тогда через нас, сотрудников отдела по делам семьи и детей. Видя разные человеческие судьбы, работая с такой категорией населения, как семьи, воспитывающие детей-инвалидов, мне постоянно приходилось трудиться над своей душой. Лихолетье, трудности, казалось бы, должны были ожесточить меня, но тогда, создавая новые формы работы с матерями, воспитывающими детей-инвалидов, я соприкоснулась с православной культурой. В работе необходим был диалог с Православной Церковью. Почему в семьях рождаются больные дети? Для чего даются лихие испытания? Как преодолеть малодушие и уныние? Встречи матерей со священниками, беседы с батюшками вносили мир и утешение в их расстроенные и уставшие сердца. Вот здесь-то я и сама потянулась к православным знаниям. Изучала святоотеческую литературу, ездила в православные поездки, посещала службы. В сердце входил совершенно другой мир — мир Любви, мир Христа. А однажды протоиерей Андрей Чекмазов — Благочинный Алексинского округа — просто сказал мне: «Пиши для православной газеты!». И сердце мое дрогнуло… И начала писать… под псевдонимом «Ирина Никольская».
О ПОМОЩИ СВЫШЕ
«Тем, кто хочет видеть,
Он дает достаточно света.
Тем, кто видеть не хочет,
- дает достаточно тьмы».
Блез Паскаль
ПОКАЯННЫЙ ПСАЛОМ…
(О помощи Свыше)
 Расскажу Вам о помощи Божией в моей жизни.
Расскажу Вам о помощи Божией в моей жизни.
Почти год я никак не могла продать свою комнату в коммунальной квартире.
Покупатели приходили и уходили. И так — из раза в раз. Ничего не получалось.
Я — человек верующий. Стараюсь все делать по Господу. А здесь никак! Продажа постоянно срывается. Ни один вариант не получается. Тоска…
В отпуске, в очередной раз, я перечитывала очень мне понравившуюся книгу архимандрита Тихона Шевкунова «Несвятые святые», в которой рассказывалось о помощи Божией и о могущественных явлениях силы Божией в жизни.
В одном из рассказов «Августин» автором повествуется история о пропаже из православного храма престольного священнического креста с драгоценными украшениями. И вот бабушки-прихожанки этого храма стали постоянно читать две молитвы из утренних православных молитв: покаянную молитву «Помилуй мя Боже…» (псалом 50) и Символ веры «Верую во Единого Бога…», зная, что в православном мире эти две молитвы помогают найти украденное. И в считанные дни священнический крест удивительным образом был найден. Вот такая история.
Я подумала, что, может быть, и мне почитать эти две православные молитвы для помощи в решении и моего вопроса. Ведь Бог поругаем не бывает.
Дело было к вечеру…
Прочитав на ночь молитвы и доверив все Богу, я отдала ситуацию в Волю Божью, успокоилась и легла спать.
Утром я снова прочитала эти две молитвы.
Далее события разворачивались с фантастической скоростью.
В 12.00 дня звонит мне мой риэлтор и сообщает, что в 13.00 придут покупатели и чтобы я была на месте.
Я быстро собралась и пошла на назначенную встречу. Покупатели приехали из города Тулы, а я живу в Тульской области в городе Алексине. Это вызвало у меня удивление, операция показалась масштабной. Комната покупателям сразу понравилась, но у них на рассмотрении были еще три варианта с условиями проживания гораздо лучшими, чем у меня.
Я пришла домой. Решила еще раз прочитать молитвы. И что Вы думаете?.. В 17.00 снова звонит мой риэлтор и говорит, что моя комната продается. На следующий день мы оформили документы. Сделка состоялась!
Размышляя надо всем произошедшим, я подумала, как у Господа происходит все быстро и просто. А затем вспомнила, что «Господь — это Любовь и Милость». Больше я не размышляла.
… Как-то мне позвонила подруга и поделилась со мной, что у нее в семье проблемы. Я посоветовала ей почитать тоже эти две молитвы. И что же? Радостная подруга звонит мне и сообщает, что все у нее разрешилось невероятным способом. Даже муж ее, осознав происходящее, сказал: «Ленчик, ты что — колдуешь?»
Дорогой мой читатель! Почаще надо нам всем откладывать в сторону свое высокоумие и нервозность и обращаться в простоте сердца за помощью к православным молитвам, призывая в помощь силу Божью и Его безусловную Любовь ко всем нам. И тогда в вашу жизнь войдут чудеса. «Дорогу осилит Идущий — если Господь Ведущий!»
ПРАВОСЛАВНЫЕ АФОРИЗМЫ
(от Ирины Никольской)
! Когда душа живет Любовью, то она живет Вечностью.
!Только тишина сердца может привести в чувство.
! В смирении познается Воля Божья.
! Мир разрывает, Христос соединяет.
! Похвалился — всех трудов лишился.
! Об Истине не кричат, ей просто служат.
! Соединяйся со Христом, а не с грехом.
! Без Христа этот мир не победить.
! Одиночество — штука злая. Одиночество обязывает к подвигу — быть с Богом. Без Бога — гиблое дело.
! Все можно пережить со Христом.
! Уверенность в себе — это уверенность в Господе.
! Человека спасает только смирение.
! Когда искренне забудешь этот мир, он вспомнит о тебе. Вот тогда держись!
ПОЭЗИЯ
СВЕТЛАНА МАКАШОВА
СЕРГЕЙ НИКУЛОВ
ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ
ОЛЕГ СЕВРЮКОВ
ОЛЬГА АРТЕМОВА
ГАЛИНА ЗЕЛЕНКИНА
ВЯЧЕСЛАВ АЛТУНИН
ЕЛЕНА ПОЛЕТАЕВА
СЕРГЕЙ РЕДКОВ
ЛЮДМИЛА СЕНИНА
ГАЛИНА ЛЯЛИНА
НАТАЛИ СИЛАЕВА
НИКОЛАЙ ТИМОХИН
ВЛАДИМИР ГУДКОВ
ЕЛЕНА СЕМЕНОВА
ВАЛЕРИЙ ДЕМИДОВ
АЛЕНА АЛЕЩЕНКОВА
ИРИНА НАЗАРОВА
ЛЮДМИЛА ПЕНЬКОВА
ВАЛЕРИЙ САВОСТЬЯНОВ
ВЛАДИМИР РЕЗЦОВ
ВАЛЕРИЙ АКИМОВ
АНТОНИНА МАРКОВА
АННА МИКАЕВА
НАТАЛЬЯ АРТЕМОВА
ЯКОВ ШАФРАН
НИНА ГАВРИКОВА
ЕЛИЗАВЕТА БАРАНОВА
ОЛЕСЯ МАМАТКУЛОВА
АННА БАРСОВА
НАТАЛЬЯ ШЕСТАКОВА
КИРИЛЛ ПРУДКИЙ
ОЛЬГА БОРИСОВА
ЛЮБОВЬ САМОЙЛЕНКО
ВАЛЕРИЙ ВИНОГРАДОВ
ОЛЬГА ПОНОМАРЕВА —
ШАХОВСКАЯ
СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ
ТАТЬЯНА ШЕЛЕПИНА
Светлана
МАКАШОВА
(г. Самара)
 Родилась в г. Самара. Специалист Центра по мониторингу загрязнения окружающей сре-ды. Автор сборника стихотворений. Печатается в коллективных сборниках и альманахах. Стихи и сказки для детей публикуются в журналах, размещаются на сайтах Самарской пи-сательской организации «Литературная губерния» и Самарской областной детской библиотеки. Лауре-ат и призер областных и международных конкурсов. Член Российского союза профессиональных литераторов.
Родилась в г. Самара. Специалист Центра по мониторингу загрязнения окружающей сре-ды. Автор сборника стихотворений. Печатается в коллективных сборниках и альманахах. Стихи и сказки для детей публикуются в журналах, размещаются на сайтах Самарской пи-сательской организации «Литературная губерния» и Самарской областной детской библиотеки. Лауре-ат и призер областных и международных конкурсов. Член Российского союза профессиональных литераторов.
ДОРОГА К СЕБЕ
Терниста дорога к Краю,
Как лента она змеится
И узкой бежит тропинкой
Порою — не вверх, а вниз...
... И снова я умираю,
Рассыпавшись по крупицам,
Графитовой сердцевинкой,
Стихами на чистый лист.
С закатом я вновь исчезла,
Покуда меня листали,
Покуда меня читали,
Старательно ритм шепча...
... На старой обивке кресла
Тихонечко догорали,
Закручиваясь в спирали,
Тускнеющих два луча...
И в этой попытке тщетной
Руками достать до неба,
Согрев ледяную бездну
И истово всех любя,
Букашкой в траве рассветной,
Росой на колосьях хлеба
С зарею я вновь воскресну
И вновь обрету Себя.
***
Возможно, мы все друг за друга в ответе,
За этот бессолнечный мир,
Где кошки ночами рыдают, как дети,
И соткано небо из дыр,
Где запахом хлеба и сладкого хмеля
Пропитан свинцовый туман,
Где мчится стрелой за неделей неделя
И тянется лет караван.
Но прочь не уйти от слепящего света…
К нему, преступая черту,
Неслышно бреду я, пусть песнь недопета,
По хрупкому жизни мосту.
***
Простуженный голос мне крикнул: «До встречи!» —
И вновь тишина.
Сгибает тревога озябшие плечи,
Теперь я одна...
Но в мире безликих, как я, миллионы
Кричат: «Подожди!»,
Слезами разлук умывают перроны,
Как летом дожди.
И в этом едином порыве бессилья
Из слез и тревог
Рождается вера, покрытая пылью
Безвестных дорог.
ЕЩЕ РЫВОК
Еще рывок… Такая малость!
Печаль уходит навсегда.
Усталость губ и глаз усталость
Смывает вешняя вода.
Но боль прозрения пугает,
И одиночество страшит.
А Бог — он есть, и помогает
Тому, кто, веруя, грешит.
БАБОЧКА
Открылась мне вещей простая суть:
Мы долго ищем в жизни к счастью путь,
Намеков на него не понимая,
Рыдаем, молим, веруем и ждем,
И днем, и ночью думаем о нем,
И сетуем: за что судьба такая…
…А память неуемная, как черт,
Вновь возвратит меня в аэропорт,
Где я стою на трапе самолетном,
Спеша покинуть солнце и тепло.
Вдруг бабочки воздушное крыло
Руки коснулось нежно-беззаботно.
Нет, я не верю! Боже, это сон:
Прекрасный ярко-синий махаон
Мне на ладонь слетел с небесной дали!
Прощай, восточный пестроликий мир!
Так вот он, тот бесплатный сувенир,
Что о тебе напомнит в миг печали!
Он в золоченой рамке у портьер
Украсит скучный пыльный интерьер,
Даря тепло и статику движенья.
И ничего не дрогнуло внутри…
И узница пакета дьюти-фри
Рвалась к свободе до изнеможенья,
Калечилась о ранящую твердь,
Предчувствуя мучительную смерть,
И вдруг внезапно перестала биться.
И, повинуясь горькому концу,
Вмиг превратилась в синюю пыльцу,
Усыпав ненавистную темницу…
От глупости людской, что хуже зла,
Исчезла, но себя не предала,
Избавилась от плена, страха, боли,
Дав мне понять, как истина проста:
Что не живет в неволе красота,
И счастье тоже не живет в неволе,
А бабочкой, свободно и легко,
Не где-то бесконечно далеко,
А рядышком оно, живое, дышит.
И, впрочем, тайны нет в том никакой:
Мы сами губим грубою рукой
То, что дается нам любовно свыше.
Валерий
САВОСТЬЯНОВ
(г. Тула)
 Родился 02.09.1949 в д. Сергиевское Болоховского, ныне Киреевского, р-на Тульской обл. Поэт, эссеист, пу-блицист, член СПР, член Международной Гильдии писателей. Автор 11 книг и множества публикаций в различных местных, российских и международных изданиях. Лауреат многих литературных премий, фестивалей, конкурсов. Книга «Русский крест» (два издания) вошла в Список лучших произведений русской литературы 2014 г., на-граждена Дипломами двух международных конкурсов на лучшую русскоязычную книгу года (Берлин и Лейпциг, 2015) и Дипломом Южно-Уральской литературной премии «За глубокое осмысление памяти Победы» (Челябинск, 2015).
Родился 02.09.1949 в д. Сергиевское Болоховского, ныне Киреевского, р-на Тульской обл. Поэт, эссеист, пу-блицист, член СПР, член Международной Гильдии писателей. Автор 11 книг и множества публикаций в различных местных, российских и международных изданиях. Лауреат многих литературных премий, фестивалей, конкурсов. Книга «Русский крест» (два издания) вошла в Список лучших произведений русской литературы 2014 г., на-граждена Дипломами двух международных конкурсов на лучшую русскоязычную книгу года (Берлин и Лейпциг, 2015) и Дипломом Южно-Уральской литературной премии «За глубокое осмысление памяти Победы» (Челябинск, 2015).
ВЕЛИКИЙ МАЙ
Тебе давно за шестьдесят,
И отдохнуть пора бы вроде,—
А ты еще сажаешь сад,
Еще копаешь в огороде.
И твой топор еще плясать
Не устает — все дело ищет,
Узором радуя фасад
Теперь вот нового жилища.
Ведь отчий дом, где вся семья
Не знала голода и жажды,
Делить решили сыновья —
И развалился он однажды.
А внуки — чуть ли не бомжи
По алчной глупости отцовской —
Приходят, просят:
Расскажи
Про время доблести бойцовской,
Про то, как строили одну
Их предки, прадеды и деды
Обетованную страну,
Что стала символом Победы!
Не терпит праздности пчела:
Зовут разбуженные ульи,
Но отложи свои дела —
В глазах вопросы, словно угли.
Гостей веди ты в новый дом
И, привечая их, поведай
О дне обычном, не святом,
Что вслед приходит за Победой.
О дне, где нужно корчевать,
Пахать, лелеять урожаи,
А не на лаврах почивать
И требовать, чтоб уважали.
Была Победа!
А теперь
Победы хрупкая надежда
У них, ровесников потерь —
Чернобыля и Беловежья.
И ты сумей,
И ты примерь
К себе
Их боль, унынье, робость —
Последний, может быть, пример
Величья, канувшего в пропасть.
Ты вместе с ними поднимай
Страну, что в гибельном провале,
Великий Дед,
Великий Май —
Солдат, забывший о привале!
ЩЕПОТЬ СОЛИ
Я был рожден во времена,
Когда закончилась война
Победою!
О них шпана
Теперь кричит как о суровых,
Где правил злобный вурдалак.
Не знаю: врут иль было так —
Я помню гордость, а не страх,
И хлеб,
Бесплатный хлеб в столовых.
Уроки кончены, и вот
Туда, где свой, родной народ,
Сережка в очередь встает,
А мы, пока он достоится —
За стол!
И солюшки щепоть
Посыплешь щедро на ломоть:
Как радуются дух и плоть —
Ах, видели б вы наши лица!..
В краю пятнадцати столиц
Таких сегодня нету лиц!
Не зря рекламный русский фриц
Мне предлагает все и сразу:
Лишь только бы молчал я впредь
О гордости победной,—
Ведь
Я — хлеб, какому не черстветь,
Я — соль та, равная алмазу!..
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
Всех моих предков меты
В сердце мое вошли.
Чувство шестое —
Это
Чувство родной земли.
Вот они, под рукою,
Мудрые письмена —
Плыли рекой Окою
Русские племена.
Плыли, гребли направо,
В реченьку да в Упу,
Будто ладьи направя
Прямо в мою судьбу.
В Тулицу повернула
Княжеская ладья —
Так начиналась Тула,
Так начинался я.
Если чего-то стою
Я от нее вдали —
Благодаря шестому
Чувству родной земли.
Мною от века правит
Умерший на меже,
Мой бородатый прадед,
Ставший землей уже.
Сказывал он сказанье —
Душу приворожил:
Пращур наш под Казанью
Голову положил.
И передали сыну
Выжившие в бою
Волю его: в России,
В отчем лежать краю.
Сын не забыл завета,—
Пело в его крови
Чувство шестое это —
Чувство родной земли...
Думаю, новый пращур
С атомною пращой:
Будет ли внуку слаще?
Буду ли им прощен?
Только бы знал он:
Русский,
В главном не согрешу:
Мягко ли будет, хрустко —
В русской земле лежу.
Чувство любви святое —
Не разменять на рубли!
Не разменять шестое
Чувство родной земли!
КРЕМЛЬ-БОГАТЫРЬ
Пять веков над милою сторонкой
Огненные сполохи зари —
То сошлись померяться силенкой
Над рекой Упой богатыри.
И один, в насмешке рот ощеря,
Молвил, опираясь на копье:
«Мальчик, я бессмертнее Кощея,
Ибо Время — имечко мое!..»
Но второй ответил:
«Верю в Чудо:
Не склонится Чудо пред копьем!
Тульский щит я,
Тульская кольчуга,
Тула-мать зовет меня Кремлем.
Отчей славе, подвигом добытой,
Пусть же в храме ставится свеча!
Даже по колено в землю вбитый —
И теперь не опущу меча.
Ибо нужно Богу, чтоб не пленной
Над родным нетленным очагом
Хоть одна склонялась во Вселенной
Мать, не оскверненная врагом!..»
СОВЕТСКИЙ КРЫМ
Советский Крым!
Забыть нельзя его!..
Я поклониться вам готов,
Гостеприимные хозяева
Курортных крымских городов!
Я вспоминаю Нину, Колечку,
Взгрустнувшего их кобеля
И конуру, где снял я коечку
За два доельцинских рубля.
Да что мне нужно? —
Я ж не жадина,—
Кафешку близкую и душ.
Ведь и студента солнце жарило
Одно,
И люксовских чинуш…
А море ласковое пенилось —
И влажной нежностью дыша,
Смирялась и не ерепенилась,
Не зная зависти, душа.
И ничего не ждал от быта я —
Но ждал от бытия всерьез,
Что тайну всякого события
Душа поймет над бездной слез.
Не зря ж стремится быть невинною,
Простору вечному — родной,
Сверяя суть свою глубинную
С морской соленой глубиной!..
И от родства того бездонного
Весь мир хотелось целовать —
И кобеля жалеть бездомного,
Пуская на ночь под кровать…
ПРИЗВАНИЕ
Человек, не чувствующий рифмы,
Стать хотел известнейшим пиитом,
Человек, не бравший логарифмы,
Стать хотел ученым знаменитым.
Первый, в стихотворческом угаре
Доконав несчастного Пегаса,
Покупал рецензии деньгами,
Прилетя в Москву из Арзамаса.
И, вчерашний умница и скромник,
Он водил чинуш по ресторанам.
Он издал увесистый трехтомник,
Но прослыл глупцом и графоманом…
А второй, из школы исключенный,
Грезя славой Лейбница и Бора,
Жертвовал, как истинный ученый,
Жизнью ради нового прибора.
Ночью провода заполыхали,
Взрывом опрокинуло избушку.
Стал он разговаривать стихами
И попал не в гении — в психушку…
Говорят: живут они убого,
Ублажая похоть и утробу,
Не прося прощения у Бога,
Сея лишь неверие и злобу.
Человек, не бравший логарифмы —
Мог бы стать известнейшим пиитом!
Человек, не чувствующий рифмы —
Мог бы стать ученым знаменитым!
МОНАСТЫРИ
России витязи былинные,
Столетий зная мед и яд,
Стоят монастыри старинные,
Святые пустыни стоят —
Храня, отстаивая таинство,
Величье русской старины
И святость истинного равенства:
Мы перед Богом — все равны.
Они с людьми — в беде и в радости.
Так что ж болезнью и тоской
Смущенные лишь,
Ищем благости —
Идем в обительский покой?
Идем застыть перед иконами
В слепой неистовой мольбе —
Постигнуть счастье
Быть покорными
Всевышней Воле и Судьбе.
И верить:
Все, молясь без устали,—
И старцы, и богатыри,—
Воскреснем вновь,
Как наши пустыни,
Как древние монастыри.
С ОКРАИНЫ СВОЕЙ
С окраины своей
к знакомой роще выйду ль,
С окраины своей
пройду ли на проспект —
Последнее тепло
ноябрьский ветер выдул
Из кленов и берез:
уж их неярок спектр.
Уже темны дубы,
уже тусклы осины,
И траур черных
лип почти невыносим.
Но лишь горят-горят
осенние рябины
На фоне тех дубов
и меркнущих осин.
И поздний свет рябин
все ближе мне с годами,—
Не крон их зыбкий свет:
их листья — без затей,—
Они чаруют взгляд
прекрасными плодами!..
Так не затем ли Бог
дарует нам детей?
ЧЕКАНКА
Головой малыш качает.
Почему и отчего?
Что, скажите, означает
Жест замедленный его?
То ли мудрость в этом жесте,
То ль наивности итог?
По листочку мягкой жести
Бродят керн и молоток.
И тревожно так
От стука:
Вдруг выводит острие
Твой неправедный поступок,
Слово глупое мое!
Мы считали:
В небыль канет,
Порастет бурьян-травой,
А малыш сидит,
Чеканит —
И качает головой...
Сергей НИКУЛОВ
(г. Тула)
 Родился в с. Морозовы Борки Сапожковского р-на Рязанской обл. С 1979 г., после службы в армии, проживает в г. Туле, работает токарем на заводе. Член православных клубов «Ковчег» и «Родник», литобъединения «Пегас». Печатается в журнале «Приокские зори» и альманахах Тулы. Автор сборника стихов «Радуясь жизни».
Родился в с. Морозовы Борки Сапожковского р-на Рязанской обл. С 1979 г., после службы в армии, проживает в г. Туле, работает токарем на заводе. Член православных клубов «Ковчег» и «Родник», литобъединения «Пегас». Печатается в журнале «Приокские зори» и альманахах Тулы. Автор сборника стихов «Радуясь жизни».
***
Был прежде Хаос. Без лица,
Без голоса, без дуновенья…
Да будет в Мире свет! Творца
Вдруг охватило вдохновенье.
По Слову — твердь! По Слову — плоть!
Созвездий бездну свел в систему!
Из вечных Слов сложил Господь
Свою бессмертную Поэму.
Страницы Духом озарил,
Напевно зазвучала Лира.
Создатель людям подарил
С любовью все богатство мира!
И для меня звезду зажег,
Украсил мир зарею яркой,
Чтоб я пройти по жизни смог,
В Его строке не став помаркой.
ВЕРНОСТЬ
Я был немало удивлен,
Однажды зацепившись взглядом:
В одежке серой тонкий клен
И белая березка рядом.
К единой кроне — два ствола?
Иль на опушке мало места?
Молва людская назвала
Его — «Жених», ее — «Невеста».
Казалась юная чета
И мне необычайно милой:
Влечет поэтов красота,
Дает им творческие силы.
Бывало,— время облететь
Листве кленовой. Даль белела,
Но пламенеющая медь
И в ноябре округу грела.
Бросал буран за шквалом шквал.
Жених, и сам насквозь простужен,
Собой невесту закрывал,
Оберегал от лютой стужи.
Нещадно их морозы жгли,
По плечи засыпала вьюга.
Подняться, выстоять смогли,
Держа в объятиях друг друга.
Им дождик волосы кропил,
Склонялись травы им в колени:
Бродяга-ветерок любил
Дремать у ног в приятной тени.
Весна влюбленных к ним вела,
Сама прокладывала стежки.
Невеста словно расцвела,
Примерив первые сережки.
Склоняла личика овал
К его плечу, от счастья млея.
Невесту нежно целовал
Он, не таясь, в лебяжью шею.
Для многих — не было милей
Ее на всей большой опушке.
А как завидовали ей
Осинки, елочки-подружки!
Иль черный глаз беду навел?
Металла визг пронзил опушку.
На травы рухнул белый ствол,
Жених не удержал подружку…
Десяток веников всего!..
О, лиходей, подобный бесам!
Иль ты не любишь никого?!
Иль ноги не дошли до леса?!..
Оставшись без подружки, клен
Безмерно рано листья сбросил.
До срока погрузился в сон,
Едва лишь подступила осень.
Зима — «сиротская» была:
Морозец — дождь… А к марту
ближе
Сугробов горы намела.
Не довелось мне встать на лыжи.
Апрель желанный! Легок шаг,
Спешу к опушке… Что я вижу?!
Сухой скелет… Увы и ах!
Жених один… зимой не выжил…
До глубины души мне жаль!
Такая верность! Это — чудо!
Так просится сюда мораль!
Но я ее читать не буду…
***
Жизнь наша — незнакомая дорога.
Идущему по ней запомнить важно,
Что если сердце он вверяет Богу,
И жить легко, и умирать не страшно.
***
Летели из рассветной дали
Лебяжьим пухом облака…
Позавчера земле предали
Мы своего фронтовика.
Душе не надобны медали,
Иным утешится наш дед:
Три поколения искали
Солдата семь десятков лет.
Настолько поздно, к сожаленью,
Людские судьбы приоткрыв,
Доступен стал для обозренья
Германский лагерный архив.
Звучит, быть может, и нескромно,
Но я хочу, чтоб каждый знал:
Страну спасая, фронт огромный
Наш дед три месяца держал!
Контужен взрывом, в диком гуле,
С трудом собрав остаток сил,
Последней выпущенной пулей
Дед не себя — врага убил!
Не смейте осуждать солдата,—
«Варились» армии в «котлах».
Короткий путь до скорбной даты —
Земля саксонская, Шталаг…
Достойно образ человечий
Сквозь ад концлагеря пронес…
Хоть говорят, что «время лечит»,
Но дочери не прячут слез.
Фальшивы яркие салюты.
Дороже всяческих наград —
Когда застыв на полминуты,
В шеренге правнуки стоят.
Им прадед-воин люб и дорог,
Прочна связующая нить!
Каким бы сильным ни был ворог,
Вовек России не сломить!
Владимир
РЕЗЦОВ
(г. Тула)
 Лауреат всероссий-ской литературной пре-мии «Левша» им. Н. С. Лескова. Зав. отделом поэзии всероссийского ордена Г.Р. Державина литературно-художественного и пу-блицистического журнала «Приокс-кие зори», член Союза писателей и переводчиков при МГО СПР.
Лауреат всероссий-ской литературной пре-мии «Левша» им. Н. С. Лескова. Зав. отделом поэзии всероссийского ордена Г.Р. Державина литературно-художественного и пу-блицистического журнала «Приокс-кие зори», член Союза писателей и переводчиков при МГО СПР.
СОНЕТ №1
(Меркуцио)
Что я нашел в тебе — и сам не знаю.
Как просто было жить мне, не любя!
За что теперь таким огнем сгораю?
Зачем случайно встретил я тебя?
Удачливым любовь дарует силы.
Не повезет — она смертельный яд.
Одна за муки — мавра полюбила,—
Меня ж любить, страдальца, не хотят!
Что б я ни делал — мной пренебрегают;
Уйду — легко забудут. Плох роман!
Моей любви она не принимает.
Судьбой мне, видно, жалкий жребий дан.
Но, пусть порой в слезах моя подушка,
Я не сопьюсь из-за тебя, свистушка!
СОНЕТ №2
Я видел сон нелепый и прекрасный:
При лунном свете среди бела дня
Мне встретился в лесу зайчонок красный;
Задумчиво смотрел он на меня.
Я видел, как к заснеженной вершине,
Стремясь, бежала горная река.
Я видел пальму, росшую на льдине,
И Драйдена* в воротах «Спартака».
Смеялись птицы радостно и звонко,
А медвежонок пел: «Я встретил вас…»
И маленького красного зайчонка,
Прижав к груди, я от лисицы спас…
Весенней сумасбродною порою
Приснилось мне, что я любим тобою.
СОНЕТ №3
Японец рубит груду кирпичей
Шершавою мозолистой рукою.
А мне не подобрать к тебе ключей,
Ты от меня за каменной стеною.
Попробуй-ка ее преодолей!
Японец, попытайся, ты двужильный…
Напрасные потуги, дуралей:
Где нет любви, там каратэ бессильно.
Не разломать тех дьявольских замков,
Вовек не распахнуть заветной двери;
Бездушную, как камень, нелюбовь
Не разнести ударом «маэ-гэри».
Но без любимой как на свете жить? О, только б эту стену мне пробить!..
СОНЕТ №4
Тупая боль всему наперекор
В моем мозгу предательски засела.
Я голову бы сунул под топор
Лишь для того, чтоб только не болела!
В груди пожар губительный возник,
Отчаянием душу опалило.
Я сердце дал бы насадить на штык
Лишь для того, чтоб так оно не ныло!
О милости бессмысленно просить.
Исход печальный мне легко предвидеть.
Я б дал себя охотно ослепить,
Чтоб больше чудных глаз твоих не видеть!
О, как бы я хотел, чтоб не страдать,
Вселенною бесчувственною стать!
СОНЕТ №5
Весною мне коварная природа
На раны густо посыпает соль.
Я не люблю весну. Боюсь ее прихода.
Она всегда мне причиняет боль.
Мне горькое давно постыло зелье,
А сладкий вкус, к несчастью, незнаком.
Страшит неотвратимое похмелье,
Прощание с волшебным, дивным сном.
В десятый раз — и все одно и то же.
В груди иссяк запас душевных сил.
Пускай страдает тот, кто помоложе,
А я свое, как видно, отлюбил.
Летите мимо, радужные сны!
Я ухожу. Устал я от весны…
Игорь
МЕЛЬНИКОВ
(г. Тула)
 Родился в Туле. Имеет 2 в/о. Член Союза писателей и переводчиков при МГО СПР. Соучредитель библиотечно-литературного объединения «Лад» при ТОУНБ и участник литературно-музыкальной студии «Вега». Лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова в номинации «Поэзия» (2014 г.). Имеет другие литературные на-грады. Автор четырех поэтических сборников. Стихи опубликованы в ли-тературных журналах и альманахах Тулы, Москвы и других городов.
Родился в Туле. Имеет 2 в/о. Член Союза писателей и переводчиков при МГО СПР. Соучредитель библиотечно-литературного объединения «Лад» при ТОУНБ и участник литературно-музыкальной студии «Вега». Лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова в номинации «Поэзия» (2014 г.). Имеет другие литературные на-грады. Автор четырех поэтических сборников. Стихи опубликованы в ли-тературных журналах и альманахах Тулы, Москвы и других городов.
***
Когда кружить забудет вьюга,
Когда лучи растопят лед
И возвратятся птицы с юга,
И меланхолия пройдет —
Ты выйдешь из дому с опаской.
Твой дом небесно-голубой.
В нем самовар, блины и сказки,
И печь с курительной трубой.
Сопливый март всегда простужен,
А ты уверуешь в тепло
И за околицу, по лужам,
Пойдешь в соседнее село.
Петлять твоя тропинка будет,
Но эта трудность — чепуха!
Ты громко крикнешь: «Мир вам, люди!»
А в светлом небе облака
Тебе покажутся большими
Рядами белых кораблей.
И ты соврешь, что прибыл с ними
На встречу к ласковой своей.
ОКА
Мы географию не учим,
Но к устью нас позвал исток.
По берегам Оки могучей —
То монастырь, то городок.
Здесь небо, солнце, и чудесный
Сюжет для повести готов.
На берегу одном — Чижевский.
На берегу другом — Лесков.
А берега соединяют
Мосты. По ним туда-сюда
Народ и едет, и шагает,
И даже тянет провода.
На теплоходах вместо стругов
Он вдаль отправиться готов.
Привет, Рязань! Салют, Калуга!
Орел, Таруса и Белев!
Водой питаясь от притоков,
Ока из века в век, опять,
Стремится к северо-востоку.
Чтоб Волгу-матушку обнять.
***
Потому что дорогу осилит идущий,
Я не часто коня поднимаю в галоп.
Потому что в России есть райские кущи,
Мне по нраву покой среднерусских чащоб.
Это Русь! Это вам никакая не Раша.
Здесь пшеницу растят и рожают детей.
Это даль необъятная светлая наша.
Это память звенящая ратных полей.
Как люблю эти рощи, луга заливные,
Эти реки, что помнят мальчишкой меня.
Я стремился туда и, признаюсь, поныне
Для приезда ищу подходящего дня.
Пусть вагончик плацкартный
качается плавно.
Пусть за окнами пыльные версты бегут.
Слово Родина пишется с буквы заглавной!
Это так и не след разглагольствовать тут.
***
Я персонаж, которого не слышат,
А посему — логичнее молчать.
Но мячик Солнца катится по крышам
И карандаш царапает тетрадь.
То не роман, не пьеса и не повесть!
На это все бумаги надо — жуть.
Да и зачем такая многословность?
Я и в стихах словами дорожу.
Вы экспрессивно машете руками,
Бесцеремонно рвете тишину.
Я не такой, мне скучно рядом с вами.
Пойду домой, разденусь и усну.
И, как ни странно, этой ночью поздней,
Когда сутуло светят фонари,
Мои стихи с крестьянской русской прозой
О сокровенном будут говорить.
Валерий
АКИМОВ
(г. Нижневартовск Ханты-Мансийского АО)
С ГОДАМИ БЫЛОЕ
ВСЕ БЛИЖЕ
 Родился в Новомо-сковске Тульской обл. в 1949 г. Службу в Советской Армии проходил на финской границе. После окончания Мо-сковского химико-технологического ин-ститута им. Д. И. Менделеева в 1978 г. приехал в Нижневартовск и работал там в нефтепереработке. «Почетный нефтяник», в настоящее время — пен-сионер. Стихи пишет с детства.
Родился в Новомо-сковске Тульской обл. в 1949 г. Службу в Советской Армии проходил на финской границе. После окончания Мо-сковского химико-технологического ин-ститута им. Д. И. Менделеева в 1978 г. приехал в Нижневартовск и работал там в нефтепереработке. «Почетный нефтяник», в настоящее время — пен-сионер. Стихи пишет с детства.
НА ПРУДУ
Хорошо! Язык немеет,
Не до горечи обид,
Небо иссиня синеет
И глазам благоволит,
Ветер стих в плакучих ивах,
Затаившись на рывок…
Сам я — в днях, тех, самых милых,
Не смотрю на поплавок:
Режу крыльями-ножами
Воздух с дымкой над водой
И летаю со стрижами
Сильный, вольный, молодой…
ИЗ ДЕТСТВА
Луговые опята,
Пескари из реки…
Не забыл я, ребята,
Всем годам вопреки,
Радость летних каникул
И следы босых ног,
Сенокос, землянику,
Недозревший горох…
Было просто и свято,
Мир открытый, как дверь.
Помню все я, ребята!
Только где вы теперь?
СЕНОКОС
Уводит память —
в прошлое тропинка.
И мне уже из белой полосы
Привиделась июльская картинка
Со звоном отбиваемой косы!
Свод неба, словно синей гладью вышит,
В зените солнцу быть уже пора,
И лучики его сквозь щели крыши
Высвечивают, как прожектора,
Пространство сенника пронзая косо.
И перезвон меня заворожил:
Лежу, малец, вернувшийся с покоса,
Где с бабами я сено ворошил.
В ДЕТСТВЕ
Я просил, темноты шибко труся,
На печи свой заняв уголок:
Расскажи мне про раньше, дедуся!
И блаженно смотрел в потолок.
Начинал он скрипуче-уныло,
Всякий раз предваряя рассказ,
Хоть и раньше, мол, внучек, то было,
Помню это как будто сейчас.
Мол, правдивости я не нарушу…
Голос деда уже молодел,
Отводил стариковскую душу,
Вспоминал, отдыхая от дел:
О работе, гулянье, базарах —
Дед не мог позабыть старину,
Но всегда обходил в мемуарах
Революцию, мор и войну.
ПРЕДПАСХАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
То былое с болью сладкой
Ворошу в своем уме:
Еле теплится лампадка,
Строгий образ в полутьме
Призывает помолиться,
За окошком — лунный шар,
От печи тепло струится,
В плошке — луковый отвар.
Кипяток клокочет глухо,
Бьют всесильные ключи,
Небывалым сдобным духом
Насыщались куличи.
И от сна не шло спасенье,
В ожиданье не спалось…
А Христово Воскресенье
Только утром началось!
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Сердце птахою поет,
Все же возвратился!
Путь-дороженька ведет
В дом, где я родился.
За окном волнуют глаз
Травы из проталин.
И слеза не на показ,
Так сентиментален.
Поезд медленно идет,
Грусть мне навевает:
Вдруг уже никто не ждет?
В жизни все бывает.
ОТЧИЙ ДОМ
Рок и милует и судит!
Но не думал я о том,
Что родителей не будет,
Опустеет отчий дом.
Сердце давит, словно клещи,
Их оплаканный уход:
Те же стены, те же вещи,
Только дух, увы, не тот!
Олег СЕВРЮКОВ
(г. Москва)
 Родился в г. Липецке. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Член СПР, Академии российской литературы, творческого клуба «Москов-ский Парнас». Лауреат литературных премий. К.т.н., доцент НИЯУ МИФИ.
Родился в г. Липецке. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Член СПР, Академии российской литературы, творческого клуба «Москов-ский Парнас». Лауреат литературных премий. К.т.н., доцент НИЯУ МИФИ.
ОБЛАКА
От восхода до заката
Облака плывут
Куда-то
далеко.
Их пушистые соцветья
все летят
через столетья
так легко!
С позолотой
ранним утром,
с жемчугом
и перламутром
в полудень.
Где-то много,
Где-то мало
тянут легким
покрывалом
свою тень.
А вечернею зарею
краской розовой
покроет
их бока.
И растают —
есть резон в том —
пропадут
за горизонтом
облака…
ОСТРОВА
Наша память сродни островам
посреди океана,
По которому бродят, как парусник, мысли-слова,
То ныряя в волну, то выныривая
из тумана,
Чтоб скорей отыскать острова,
острова, острова.
Вдоль опушки лесной прохожу
сквозь куртины кипрея,
Что как розовый остров на море
зеленом лежит,
А над ним предзакатно стрекозы
и бабочки реют,
И от крыльев трепещущих воздух
неслышно дрожит.
Пал на землю туман и окрасился шепотом листьев
В блекло-нежно-зеленый
прозрачно-рассеянный цвет,
И вдруг стало понятно, что нету
затверженных истин,
Есть один только этот, мне
в душу струящийся свет.
И, вплывая в туман, моих мыслей бесплотная лóдья
Растворяется в нем и в одном
безусловно права:
То, что было вчера, что случится, поверьте, сегодня —
Острова моей памяти, будущего
острова…
МАЛЬЧИШКИ
1.
Ромашкой аптечною пахнет тропинка,
Взметается вверх за пылинкой пылинка,
Пускай у трусов туговата резинка,
Зато с земляникою спелой корзинка.
Кукушка кукует протяжно и громко,
Тропинкой бежит босоногий мальчонка,
Чему-то смеется он весело-звонко,
Лопух и ладошка от солнца заслонка.
И этот мальчишка знаком мне до боли:
Он утром — на речке, а вечером —
в поле.
Он в полдень — в лесу, он не знает
неволи,
За пазухой хлеб — и не надобно боле.
Он знает ручей со студеной водицей,
Которой никак невозможно напиться,
В которой друзей отражаются лица,
Зеленые сосен иголки-ресницы.
Везде и всегда до всего ему дело —
Не знает он страха, все делает смело…
Вот так бы душа моя пела б и пела,
Куда же ты, детство мое, улетело?
Куда ты умчался, веселый мальчишка,
Босой, белобрысый, в коротких
трусишках?
2.
Ах, какие бушевали страсти
В сердце непослушного мальчишки! —
Что такое мелкие напасти,
Как учителя, задачи, книжки?!
Он влюблен — весь мир сияет светом,
Все иное мелочно и вздорно!
А всего особенней — советы
Быть в труде серьезным и упорным!
Нет любви ответной и до гроба —
То печаль бездонна и навеки:
Для чего ж тогда живете оба?
И слезами набухают веки…
Все — на край, над пропастью,
над бездной!
Только так и жить, а не иначе —
Метеором вспыхнуть в ночи звездной,
Не брести, качаясь, ветхой клячей!
3.
Босые азиатские мальчишки
В осенней холодеющей Москве —
Они не знают, что такое книжки,
Взъерошенные, словно воробьишки,
Ладошки сунув в теплые подмышки,
Ногами что-то чертят на песке.
Какими иноземными ветрами
Вас пылью принесло с родной земли
Сюда, где травы стынут под снегами,
На листьях иней — точно оригами,
Где судьбы разбегаются кругами,—
Что здесь нашли вы, что приобрели?
Зачем, смирясь с прозваньем
гнусным «чурки»,
В плену совсем недетского труда
Вы, с вашей жизнью заигравшись в «жмурки»,
У кабаков «стреляете» окурки,
Что вам суют богатые придурки —
Кичливые не в меру «господа»?..
4.
Мне приснился старый яблоневый сад,
Покосившийся забор, овраг и речка,
То, что было много лет тому назад,
Стало близко вдруг и недалечко.
Вот двором проходит дедушка седой,
Вот меня ласкают бабушкины руки,
Вот отец — такой красивый, молодой
Вместе с мамой. Только горше
нету муки
Просыпаясь, лиц родных не увидать,
Не услышать вздоха, слова, просто звука
И, вплывая в явь, осознавать
Как проходит время сквозь разлуку…
Раскорчеван старый яблоневый сад,
Экскаватор закопал овраг и речку...
Только память может нас вернуть назад,
Только Бог готовит с прошлым встречу…
ОБЛАКА 2
Я лежал, опершись
о старый забор,
И покачивался,
как в гамаке —
Хмель разросшийся
создавал упор,
Заплетясь узлом
на каждой доске.
Я смотрел, куда
плывут облака,
Я в ладонях держал
шальной ветерок,
И небесная
голубая река
Мне казалась лучшею
из дорог.
Мне хотелось таким же
облаком стать,
Что по небу, как пух ,
Летит и летит,
Чтобы снова там,
в небесах, встречать,
Тех, кого уже
растерял в пути.
Антонина
МАРКОВА
(г. Тюмень)
 Имеет высшее филологическое образова-ние (ТюмГУ). Стихи пи-шет с детства. Первые публикации появились в 90-е гг. Автор 3-х персональных сборников. Печатается в профессиональных журналах и коллективных сборниках. В творческом союзе с тюменским композитором Валерием Серебренниковым было со-здано 20 лирических и детских песен. Четыре из них вышли на диске «Сибирь Моя» (2009 г.). В 2015 г. состоялась премьера оперы «Военная тайна» по сказке А. Гайдара «О мальчише-Кибальчише…», либретто написано в соавторстве с композитором. Член РОО «Поэты Тюменской области». 19 лет — руководитель авторской студии для детей и молодежи «Верешок».
Имеет высшее филологическое образова-ние (ТюмГУ). Стихи пи-шет с детства. Первые публикации появились в 90-е гг. Автор 3-х персональных сборников. Печатается в профессиональных журналах и коллективных сборниках. В творческом союзе с тюменским композитором Валерием Серебренниковым было со-здано 20 лирических и детских песен. Четыре из них вышли на диске «Сибирь Моя» (2009 г.). В 2015 г. состоялась премьера оперы «Военная тайна» по сказке А. Гайдара «О мальчише-Кибальчише…», либретто написано в соавторстве с композитором. Член РОО «Поэты Тюменской области». 19 лет — руководитель авторской студии для детей и молодежи «Верешок».
СТАРОЖИЛ
Солнце выплеснуло себя
В окна века былого.
Деревянной резьбой клубясь
В свете дня золотого,
Стародавний тюменский дом
Наблюдает неспешно,
Так ли, правильно ли живем,
По традициям здешним?
День погожий лелеет звон
Колокольни соседней.
Город радугой окрылен,
Что случилась намедни.
Старой улочки поворот
Бережет старожила,
Где за вязью больших ворот
Время словно застыло…
ОБЛЕТАЮТ ЛИСТЬЯ,
ОБЛЕТАЮТ…
Облетают листья, облетают
нынче так же, как бывало встарь.
Вновь в оправу тонкую вплетает
осень выцветающий янтарь.
Все как прежде золотом струится:
неба переспевшая эмаль,
листопада теплая живица,
рук твоих заметная печаль…
Облетают листья, облетают —
гонит ветер желтокрылых птиц.
Грустных слов неуловима стая
на полях исписанных страниц.
ЗИМА ОСТАВИЛА КЛЮЧИ
Зима оставила ключи:
Входи без стука.
Ее торжественен почин,
Чиста наука:
По снегу первому идти
Навстречу свету,
Деревьям белым по пути
Писать сонеты,
Разгадывать метели тень
До завиточка,
И заучить морозный день,
До самой точки.
МОРОЗ
А морозец не на шутку
Все крепчает.
Вот уже какие сутки
Он серчает!
На стекле рисует мелом
Сад Эдемский,
Снег томит буханкой белой,
Деревенской.
Каждый шаг многоголосо
Повторяет,
Будто звонкий танец босым
Вытворяет.
На деревьях сны развесил
Кружевные,
Сам от стужи пьян и весел,
И шальные,
Ледяные ветры гонит
Переулком,
И в холодном свете тонет
Эхом гулким.
ЧАЕПИТИЕ
Вот и время нам вечеровать.
Буду чай по чашкам разливать.
Аромат целебный, травяной
Поплывет по кухне, как живой.
Станет вечер стариком седым,
Запоет труба на все лады
Теплым ветром. А огонь в печи,
Догорев, привычно замолчит.
Будет свет закатный истекать
С занавесок — прямо на кровать,
С покрывала — на пол, а потом
Растворится в сумраке ночном.
Золотинки звезд лизнут окно,
Станет и прохладно, и темно…
Над столом луна, как шар, зажглась.
Жаль, тебя на чай не дождалась…
МАМА МОЯ, СТАРЕНЬКАЯ
Мама моя, старенькая,
Высохший колос ржаной.
Руки твои, маленькие,
Космос несут надо мной.
Волосы поседевшие —
Дыма осеннего прядь.
Мысли осиротевшие
Возрасту не отнять.
Памяти пряжа тонкая
Путает узелки,
Воспоминанья ломкие —
Трепетны и легки.
Все, что судьбой назначено,
Стало тебе не в новь,
Только в душе не растрачены
Вера, Надежда, Любовь.
ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ВЕСНА
Моя провинциальная неспешная весна,
День ото дня заметнее становится она.
Вот небеса свинцовые с земли
приподнялись,
Растаяли, развеялись и обнажили высь,
Лежат сугробы пышные застывшим молоком,
А из-под них, как ниточка, ручей бежит тайком.
Капель горохом солнечным решилась прыгать вниз,
Сосульки ножки свесили,
усевшись на карниз,
И за окном затенькали синичьи голоса,
И кот на подоконнике — с улыбкою в усах.
Ольга
АРТЕМОВА
(п. Медвенка Курской обл.)
 Член СПР. Стихи публиковались в ряде цент-ральных газет и журналов. Автор 16-ти книг стихов и прозы. Является победителем Всероссийского конкурса «Парус одинокий», посвященного 200-летию со д. р. М. Ю. Лермонтова, ряда областных творческих конкурсов. Почетный работник общего образования России.
Член СПР. Стихи публиковались в ряде цент-ральных газет и журналов. Автор 16-ти книг стихов и прозы. Является победителем Всероссийского конкурса «Парус одинокий», посвященного 200-летию со д. р. М. Ю. Лермонтова, ряда областных творческих конкурсов. Почетный работник общего образования России.
***
Моих учителей осталось мало:
Остались сила утра и река,
Развенчанная мудрость старой мамы
И сад, в себя вобравший облака.
Да голоса, которые беззвучны.
И пусть им больше нечего сказать,
Они сказали громче нас и лучше —
И тянет снова книгу прочитать.
Моих друзей из света и из стали
В тумане дней растаяли следы.
Нам скоро кубок горечи прощальный
Наполнят поминальные столы.
Моих любимых имена остыли.
Забыта тяжесть золотых венцов.
Сегодня эти головы седые
Почти любовно метит нелюбовь.
Моих страстей угомонилось море.
Моим стихам подходит срок молчать.
Все, что присвоила я своевольно,
Пора… Пора уже другим отдать.
***
С чем мне сравнить рождение стиха?
С медлительной симфонией рассвета?
С биеньем нежности, когда — к щеке щека
И ты бессмертней, чем сама Джульетта?
Или с нераспустившимся цветком,
Еще не показавшим сердцевину?
С волшебной пряжи дремлющим мотком?
Или с рукой, упрямо мнущей глину?
Что выйдет? Новый жалкий черепок?
Или в тяжелой красноватой глине
Ты сильный и могучий, точно бог,
Черты увидишь будущего сына?
***
От первой мечты —
До желанья простейшего старости.
От вздоха «взлетим!» —
До позорного чувства отсталости.
От вкуса тревог —
До оскомины грустной пресности.
От тысяч дорог —
До единой, дурной известности.
От боли «нельзя» —
До дыханья спокойно-свободного,
От сумерек дня —
До страшного света Господнего.
***
Сердце работает без выходных:
Бьется, грустит, на что-то надеется,
Перерождается в пламень и в стих,
Кротко влюбляется в травку и в деревце.
Сердце бунтует. Разводит мосты.
Ищет друзей и навеки прощается.
Сердце — Бетховен и сердце —
Матисс.
Троньте, заденьте — оно отзывается.
В ссадинах, в ранах, разбитое в кровь
Не прекращает свое восхождение,
Тесные рамки взрывая веков,
В детях и внуках творит продолжение.
Кажется вечным этот завод.
Сами торопим: надрывнее бейся!
Только в конце врач устало вздохнет
И констатирует сухо: от сердца…
***
А. Н. Захареевой
Вам дом не нужен? Дом продается.
Века ушедшего. Выстроен просто.
Двери не евро и окна не пластик.
«Рухлядь!» — кривится риэлтор-мальчик.
Улица особняками смеется.
Слышите? Слышите? «Что продается?!»
Дом, где всегда нас ждала у дверей
Та, что не встретили после добрей.
Здесь было тихим и чистым начало.
Здесь потаенно стихи прорастали.
В комнате каждой кружились мечты.
Смело взлетали радуг мосты.
Здесь примерялись все новые платья.
Здесь мы с сестрой задыхались от счастья!..
Сердце от боли вот-вот разорвется:
На Чумаковской дом продается.
Анна МИКАЕВА
(г. Самара)
 Поэт, член Самарской РО Россоюза про-фессиональных литера-торов (глава Отрад-ненской организации). Дипломант междуна-родных фестивалей и конкурсов. Автор сборника «Под властью мгновения».
Поэт, член Самарской РО Россоюза про-фессиональных литера-торов (глава Отрад-ненской организации). Дипломант междуна-родных фестивалей и конкурсов. Автор сборника «Под властью мгновения».
ТАНЦОР
Белый костюм и с кокардой фуражка,
Трость элегантная, в цвет башмаки.
Все безупречно в нем, все без промашки:
Стать и движенья — годам вопреки.
Он в променаде идет по площадке,
Я с интересом смотрю ему вслед.
Вижу, заправского денди повадки,
Диско -танцора промчавшихся лет.
С грустной улыбкой он смотрит на пары.
Музыка танца призывно звучит.
Глуше, ритмичного сердца удары,
Жарче, закатного солнца лучи.
Встречным — поклоны, всем дамам — улыбки.
Вальс? Приглашенье? Конечно, не прочь.
Непостоянством реалии зыбки:
Быстро сгущалась южная ночь.
Ждали напрасно отменного танца,
Годы болезней прибавили лет.
Сгинуло время, где протуберанцем
Ритм отлетал от блестящих штиблет.
СТАРИННЫЙ ДОМ
Старинный дом противился ветрам:
Гремела кровля, ставни рвались с петель.
Он долго жил, потворствуя годам,
И век минувший всуе не заметил.
В его покоях — вздох, как гулкий стон,
И обнаженность стен коробит взгляды.
Жильцами предан и покинут он,
А без любви и жалости не надо.
Там в парковых аллеях тишина...
Все поросло плющом и повиликой.
Там век иной, иные времена
И все под откупом у новизны безликой.
А дом держался из последних сил.
Он видел, как рыча, готовясь к битве,
Широкий нож бульдозер опустил…
И дрогнул дом, склонясь в немой молитве.
СТРАННИК
Злилась вьюга, глохли звуки
В снежной замети пурги.
Иногда врывались фуги
И смолкали, как шаги.
Иногда токката билась,
Обрываясь тишиной.
«Проявите божью милость!» —
Слышу голос за спиной.
В удивленье обернулась —
Лик святого на стене.
От молитв — горбом сутулость,
Взглядом тянется ко мне.
Стук в калитку, лай собаки.
Кто в такой ненастный час?
А с киота взглядом знаки…
Открываю: «Я сейчас!»
Входит схимник изможденный —
Обморожен весь, избит.
Только взгляд завороженный
Искрой пламенной горит.
— Кто ты, путник, и откуда?
Ищешь что в глухую ночь?
Пробрала тебя остуда,
Чем могу тебе помочь?
— Мир тебе! — склонясь в поклоне,
Он с приветом говорит.—
В храм иду, припасть к иконе,
А в миру я был пиит.
Нагрешил изрядно словом,
Бога всуе поминал.
Отзывалась рифма звоном,
Да бездушным был финал.
— Проходи брат, будь как дома,
Обогрейся не спеша.
После снежного содома
Пусть согреется душа.
Злилась вьюга, билась в окна,
Саван грезился с косой…
А с пристенного киота
Улыбался им святой.
ГОРЫ
И пусть я в горы не ходила...
Люблю, как светлую мечту,
Вершин курящихся кадила,
Престолов снежных высоту.
И рек рокочущие ноты,
Висящий над обрывом мост,
Пещеры тайные и гроты
И медленный деревьев рост.
Я в мыслях представляю ярко:
Крутой подъем и резкий спуск
И как в безветрии там жарко,
И дикой ежевики куст...
А выше — снежные заносы,
Чалмы великих ледников,
Цветные Рериха утесы
И бег мятежных облаков.
Как жаль, что в горы не ходила,
И сердце не теснил восторг,
И не вели со мной светила
За вечность бесконечный торг.
Галина
ЗЕЛЕНКИНА
(г. Кодинск
Красноярского края)
 Родилась 11.07.1947 г. в г. Бресте Белоруссии в офицерской семье. С 1960 г. живет вначале в г. Братске Иркутской обл., а ныне в г. Кодинске Красноярского края). Окончила в 1971 г. энергетический факультет Иркут-ского политехнического института. Инженер-электрик, строитель ряда ГЭС. С 1997 г. занимается писатель-ским трудом. Печатается в России и в других странах. Член СПР (МГО) с 2011 г. Академик Петровской академии наук и искусств с 2015 г.
Родилась 11.07.1947 г. в г. Бресте Белоруссии в офицерской семье. С 1960 г. живет вначале в г. Братске Иркутской обл., а ныне в г. Кодинске Красноярского края). Окончила в 1971 г. энергетический факультет Иркут-ского политехнического института. Инженер-электрик, строитель ряда ГЭС. С 1997 г. занимается писатель-ским трудом. Печатается в России и в других странах. Член СПР (МГО) с 2011 г. Академик Петровской академии наук и искусств с 2015 г.
МЕЧЕТСЯ ДУША
Мечется душа
в тесной оболочке.
Пишет не спеша
время жизнь по строчке.
То карандашом
на листке тетрадном,
то кривым ножом
в месте неприглядном.
Мечется душа
от тоски и скуки,
музыкой глуша
боль душевной му́ки.
Как душе помочь,
подскажите средство,
выпитая ночь
и таблетки детства.
Мечется душа,
рвет кардиограмму.
В храме, чуть дыша,
я молюсь за маму.
«Помоги ей, Бог,
ниспошли ей силы,
отодвинь ей срок
лечь на дно могилы».
Я смотрю на лик
мокрыми глазами,
молчаливый крик
перед образами
исторгает ввысь
раненая совесть,
и роняет мысль
вечной жизни повесть.
МНЕ ДО ТЕБЯ
Мне до тебя один лишь шаг
из суеты сует до истин,
но не могу шагнуть никак,
мне на него не хватит жизни.
Мне до тебя один лишь миг
от расставания до встречи,
но все часы стоят, и крик
надежд последних гасит свечи.
Мне до тебя один лишь вздох
в бесперебойности дыханья,
но в горле ком и, как итог,
непредсказуемость желанья.
Мне до тебя одна лишь грань,
что меж реальностью и сказкой.
Ты только душу не порань
сердец невидимою связкой.
Мне до тебя как до звезды,
что дарит свет любви Вселенной,
но счастлив я, что там есть Ты
и правишь миром, где я пленный.
Мне до тебя один лишь шаг
из суеты сует до истин,
но не могу шагнуть никак,
мне на него не хватит жизни.
О МУЗЕ
Уже неделю не пишу ни строчки,
Меня обходит Муза стороной.
Три точки, три тире и снова точки —
Услышит ли она мой позывной?
Сгустилась темнота перед рассветом,
Пора настала солнцу восходить.
Приходит Муза по ночам к поэтам,
А к поэтессам толку нет ходить.
Капризна Муза, как и все красотки,
Договориться с нею нелегко.
Есенин ей поставил ящик водки,
А Пушкин — сотни две «Мадам Клико».
Высоцкий с Музой пил коньяк в Париже,
Великий Гете пивом угощал,
Но ей хотелось в Петербург, он ближе,
Там Блок ей две поэмы обещал.
Я не могу на равных с ними спорить,
Другие ныне нормы и закон.
Чтоб встречу с Музой как-то мне ускорить,
Я торт ей испекла — «Наполеон».
ПУТАНИЦА
Перепутало время карты
и на прикуп сдало не те.
Вместо финиша только старты
на маршруте по маете.
Перепутала я страницу
книги судеб и в суете
все искала синюю птицу.
Только птицы сейчас не те.
МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ
Мечты мои однажды канут в бездну
несбывшихся желаний и страстей.
И я тогда за ними вслед исчезну
из памяти знакомых мне людей.
Ну а пока я теплая, живая,
с душою, полной доброго огня.
Прошу вас
подождать со мной трамвая
на остановке завтрашнего дня.
НА СЕМИ ВЕТРАХ
Дом, заброшенный на исходе лет.
Ни в одном окне даже стекол нет.
Скособочился, от невзгод поник,
горем сморщенный дом уже старик.
В нем давно не пьют кофе по утрам,
птицы черные в гнездах по углам.
О судьбе моей в книгах не прочесть,
вот и каркают всем про все как есть.
На семи ветрах в зарослях судьбы
то ли жизни крах, что была как бы,
то ли свет любви погасила боль,
и на раны лет время сыплет соль.
Погоди, судьба, не спеши, постой!
Дом еще живой, хоть внутри пустой.
Рано отпевать, рано хоронить,
лучше подарить Ариадны нить.
Одолеет дом лабиринты лет,
чтоб поверили в то, что сносу нет.
Ну и пусть скрипит под ногами пол,
я сама ворчу, слыша с ветром спор.
Жду и верю я в то, что чудо есть
и придет в мой дом, оказав мне честь.
Вспыхнет ясный свет в каждом из окон
и вернет любовь, что была как сон.
МОЛИТВА СТАРОГО ПОЭТА
Господи, верни меня к себе,
я чужих дорог прошла немало
и, не веря собственной судьбе,
правду жизни через ложь познала.
Господи, поговори со мной,
Ты Отцом мне был, а не кумиром.
Крылья, что ношу я за спиной,
оживи, чтоб полетать над миром.
Подари, Господь, на склоне лет,
что короче с каждым днем и у́же,
те слова, что излучают свет,
исцеляющий больные души.
Дай мне силу уберечь свой дух
от людского зла, хулы и скверны,
и льстецов, что услаждают слух
музыкою слов из букв неверных.
Наталья
АРТЕМОВА
(п. Медвенка
Курской области)
 Член СПР. Публикуется в ряде цент-ральных газет и жур-налов. Автор 16 книг стихов и прозы. Победитель Всероссийского конкурса «Па-рус одинокий», посвященного 200-летию со д. р. М. Ю. Лермонтова, лауреат Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы».
Член СПР. Публикуется в ряде цент-ральных газет и жур-налов. Автор 16 книг стихов и прозы. Победитель Всероссийского конкурса «Па-рус одинокий», посвященного 200-летию со д. р. М. Ю. Лермонтова, лауреат Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы».
***
Вдруг задохнешься от нежности,
Что удивишься и сам,
Примешь почти с неизбежностью
Преданность этим местам.
Преданность роду и имени,
Дом пропадет — так золе,
Небу бесхитростно-синему,
Черной от пота земле.
Гнездам грачиным, пустующим
В ветках моих тополей,
Сокам, в деревьях бунтующим,
Жару июльских полей.
Самой обычной, размеренной
Жизни родного села,
Запаху солнца и клевера,
Взглядам без примеси зла.
***
Мы с тобой возьмемся за руки
И сквозь спящие поля
Добежим до самой радуги,
Где кончается земля.
В зелень трав, их край затерянный,
Упадем, роняя смех,
И плывущий запах клеверный
Будет там сильнее всех.
Где венков кольцо сплетается,
Здесь над миром, наконец,
Заглушая все, останется
Только громкий стук сердец.
Только он. И волны клевера.
Так легко и без затей
Ненадолго б мы поверили
Тихой выдумке полей.
И тому, что в небе тающий
Разноцветный легкий мост,
Близость счастья обещающий,
Нам удачу бы принес.
***
Там, где-то в дали, в невозвратной дали,
Затерянный в недрах великой земли,
Лежит мой солдат, не пришедший солдат,
Которого ждали когда-то назад.
И травы над ним, совершая виток,
Проснутся опять в свой назначенный срок.
И будут они здесь богаче, сильней,
Цветы медоносней и солнце щедрей.
О если б, о если б один только раз
Мне здесь оказаться, хотя бы на час.
В траву опускаясь, от ветра застыть,
И слушать, и слышать, и память испить.
Я б голос тогда, человеческий голос
Услышала б там через буйную поросль.
Сквозь толщи корней, их сплетенье слепое
Я б сердцем услышала сердце другое.
Но место затеряно это стократ
В бушующем времени, в криках солдат.
В том самом последнем, бессчетном бою.
И я до него никогда не дойду.
***
Этот ветер мартовский, южный,
С пряным запахом талых полей,
И уже никому не нужный
Грязный снег под ногами людей.
И ожившие в теле силы,
И желанье любить и ждать,
Ждать того, кто в весеннем мире
Сам желает любимым стать.
И еще голоса и звуки
Потревоженной солнцем земли,
И ручьев бормотанье, и стуки
Пестрых дятлов до самой зари.
Так над миром победно и ново
Песня жизни опять прозвучит.
Каждый знает в ней каждое слово,
И напев ее весел и чист.
***
Умру я, а память останется:
Заросший цветами сад.
Дичать они станут, упрямиться,
Начнут расти наугад.
Закидывать к небу милые,
Цветные головки свои:
Дельфиниумы и лилии,
Розы и мускари.
И ждать дождя как спасения.
Но слишком беспечен дождь,
И руки с тончайшими венами
Воды не подарят дрожь.
И будет их царство маленькое
Растеряно, потрясено.
А гусеницы, как в валенках,
Неслышно придут под окно.
О сколько еще будет встречено
На солнечном их пути.
Но силой особой отмечены
Все будут они цвести.
И выйдут люди усталые
И скажут: «Как весел сад.
Какие в нем небывалые
Сегодня краски горят».
Вячеслав
АЛТУНИН
(г. Тула)
 Журналист, поэт, прозаик. Родился в д. Песковатое Белевского района Тульской области, в семье сельских учителей. В г. Белеве окончил среднюю школу, а затем — историко-филологи-ческий факультет КазГУ. Почти сорок лет работал в газетах Тульской обл. Многие годы занимался освещением АПК. Стихи пишет и печатается с 14 лет. Автор 4-х сборников. Соавтор нескольких книг, публикуется в альманахах и сборниках. Лауреат литературной премии СПР «Бежин луг» им. И.С. Тургенева. Дипломант конкурса ЦФО «Потенциал России». Член СПР и Союза журналистов России.
Журналист, поэт, прозаик. Родился в д. Песковатое Белевского района Тульской области, в семье сельских учителей. В г. Белеве окончил среднюю школу, а затем — историко-филологи-ческий факультет КазГУ. Почти сорок лет работал в газетах Тульской обл. Многие годы занимался освещением АПК. Стихи пишет и печатается с 14 лет. Автор 4-х сборников. Соавтор нескольких книг, публикуется в альманахах и сборниках. Лауреат литературной премии СПР «Бежин луг» им. И.С. Тургенева. Дипломант конкурса ЦФО «Потенциал России». Член СПР и Союза журналистов России.
СКАЗАНИЕ О ПЕТРЕ И
ФЕВРОНИИ
Поэма
(Фрагменты)*
«От зачала же создания мужа и жену сотворил Бог. Сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей и будут оба в плоть едину. Тем же убо неста два, но плоть едина. Еже убо Бог сочета, человек да не разлучает». (Марк 10; 6—9)
ЗАЧИН
ИЗНАЧАЛЬНАЯ РУСЬ
О, настройте, настройте вы гусли свои,
Гусляры-молодцы,
на возвышенный лад!
И прославьте Петра и Февронию вы.
Имена их во мраке столетий горят.
Те святые супруги в годину потерь,
Бед и крови сумели любовь сохранить.
Где подобную силу отыщешь теперь?
Нет ее. Золотая оборвана нить.
И огонь тот святой в наших душах угас.
Оттого наши души и злы, и темны…
Оттого-то и худо, и скудно у нас.
Нет любви, нет семьи, значит, нет и страны.
Как в земле из зерна возникает росток, —
Из семьи, из души или трус, иль герой.
Гусляры! Перелейте же в золото строк,
Звонких песенных строк радость, слезы и боль!
Изначальная Русь! Ты еще до Орды
На страданья и беды себя обрекла.
Слишком были и алчны князья, и горды.
Христианская кровь, как водица, текла…
И слеталось на трупы, крича, воронье.
И в кровавых полях волки выли во мгле.
Потому что сказал брату брат: «Все — мое!»
И не стало покоя на русской земле.
И кровавая в полночь всходила звезда,
И друг друга понять людям было нельзя.
И пылали, сгорая дотла, города —
То за власть и за земли дралися князья!
И среди этой крови, пожаров и мглы,
Боже мой, неужели возможна любовь?
Поле. Алый рассвет. Кони. Посвист стрелы.
Изначальная Русь! Неизбывная боль!..
СЛОВО ПЕРВОЕ
О славном князе Петре Муромском и о его сражении со змеем
Древнерусскую повесть начнем,
помолясь.
Правил в Муроме Петр,
добродетельный князь.
Это было еще до Орды, хоть она
Подступала, грозя, словно туча, черна.
Чтобы русское солнце навек поглотить,
Чтобы в веру свою наш народ обратить!
Но еще до кровавых сражений с Ордой
Шла на русскую землю беда за бедой.
Печенеги да половцы — темная мгла.
Беспощадны, стремительны.
Несть им числа!
Вот в осеннюю пору, в златом сентябре,
Со дружиною князь на вечерней заре
Едет по полю, едет в свой Муром домой.
Целый месяц земли не видал он родной.
Дрался с ворогом. Трое их было князей.
Каждый с крепкой и верной
дружиной своей.
С кочевыми народами бились они,
Проводили в походах и ночи, и дни.
День — в походе, а ночью — седло под главу…
Чуть поспишь у костра, глядь —
уже и зовут!
Вспоминали они в разговорах своих
Тот великий поход.
Столетье назад — не вернуть
и не взять —
Русь на половцев вел Мономах и князьям
Говорил: «Постоим же за землю свою!
Бой дадим супостатам, не дрогнем
в бою!»
И не дрогнули. Сеча великой была.
Солонец-река кровью, казалось, текла.
— Боже! Боже! — взывали князья.— Помоги!
И услышал Господь. И бежали враги.
Князь с удачей, с победою едет домой
И с добычей богатою боевой.
Что отрадней победы, добытой в бою?
Славно землю они защитили свою.
Бились вместе за Русь. Вот бы так
и всегда!
А то ссоры, усобицы, распри. Беда!
И беда от кого? От князей, от своих!
Больше, чем от врагов, Русь страдает от них.
Да еще вот бояре. Те тоже за власть
Даже дьяволу души готовы закласть.
Вспомнил Петр про далекие,
давние дни.
С Боголюбским раз вместе сидели они
Во дворце белокаменном дивном его
Под Владимиром. Мрачен был князь.
— Отчего?
Отчего ты тоскуешь? —
Петр тихо спросил.
И ответил Андрей:
— Нет надежды — нет сил.
Нету верных людей. И родные
— враги.
Как тут землю сберечь-то?
Спаси, помоги,
Иисусе Христе! Рог боярам сломить —
Вот желанье мое. Ведь они разделить,
Всех поссорить хотят
да и властвовать так!
Вот намедни был грозный, зловещий мне знак.
Знак такой: неожиданно в спальню,
в окно,
Черный ворон влетел.
Было душно, темно.
Я окно отворил. Что тут? Не разберу.
Да хорошего нет. Видно, скоро помру…
— Что ты, князь?! —
Петр его успокоил, как мог.—
Молод ты и силен. Обойдется! — Дай Бог!
— Да, Господь защитит. Ну, авось ничего!
Бог не спас. Через месяц убили его,
Боголюбского, в спальне.
Свои же, родня…
Боже, Боже! Спаси и помилуй!
Средь дня
И средь ночи!
Тяжел этот княжий венец!
Ныне — князь, а назавтра, глядишь, — уж мертвец!
Смута, смута идет, как чума, по Руси!
Боже вечный, великий, помилуй, спаси!
Муром, Суздаль, Чернигов,
Владимир, Москва…
Не сотрут ли их княжеских драк
жернова?
Не великие княжества. Что, как сотрут?
Э! На все — Божья воля.
Свой княжеский труд
Исполняет он честно. Во граде его
Уж совсем-то худых не найти никого.
И ремесла растут, и торговля растет.
Не бесчинствует, Бога боится народ.
Полноводна Ока. И туда, и сюда
Проплывают с различным товаром суда.
А сады, а поля! И конца не видать.
Липы, клены, дубы. Тень, покой.
Благодать!
Как-то Всеволод Юрьич Большое Гнездо,
Побывав здесь, сказал:
«Хорошо тут зело!
Зелень, тишь. А как храмы звонят! Лепота!
У меня, к сожаленью, музыка не та.
Все грызня да раздоры, да драки
за власть.
Ох-хо-хо! Долго ль тут и упасть,
и пропасть?»
Дед Петра с Ильей Муромским
дружен был. Тот
Говорил: «Этот город мне силу дает!»
Отвечает и Петр: «Хоть любого спроси:
Лучше Мурома города нет на Руси!»
(...)
СЛОВО ВТОРОЕ
О праведной и прекрасной Февронии из деревни Ласково
Есть деревня от Мурома недалеко
Под названьем Ласково. Стоит высоко
На холме среди хлебных полей и лугов.
А домов в ней две сотни.
Труд сельский суров.
Лето или зима от темна до темна
Ни присесть, ни прилечь.
Все работа одна.
Вот средь тех полей, бесконечных работ
Там, в деревне Ласково,
Февронья живет.
Молода.
Ей лишь двадцать исполнилось лет.
Ни родных, ни семьи.
И хозяйства-то нет.
Ткет холсты, продает,
тем и кормится. Все
Ее дурочкой кличут, Хавроньей. В селе
Странных, нежных не любят.
Все странности — блажь.
Ты работу давай! Ты уменье покажь!
Вот вам тяжкая доля Февронии той:
Лет семи уж осталась она сиротой.
В чужих людях жила. И от этих людей
Натерпелась сполна. Было солоно ей.
Жизнь деревни всегда нелегка, а тогда
И подавно. Ведь шла за бедою беда.
То скотина подохнет, то голод, то мор,
То пожар.
Так всегда с незапамятных пор.
Сирота — ни к чему. Кто она?
Лишний рот!
Поругают, прогонят. Февронья идет
В лес, на речку.
Речь Природы понятная ей.
Жизнь деревьев и трав, птиц и рыб,
и зверей,
И целебные травы все знала она,
И коренья. И, силой земною полна,
В единенье с природой жила и цвела
Среди грубостей, тяжкой работы и зла.
И пшеничные косы свои распустив,
Она часто бродила средь спеющих нив.
И в глазах васильковых небесный был свет.
Так цвела красота среди стужи и бед.
А в деревне Ласково своим чередом
Шло житье.
Одинаково жил каждый дом.
Вот зима. При лучине все бабы прядут.
Мужики сбрую чинят да лапти плетут.
По весне на луга отощавших коров
Выгоняют. А там уж и сохи готовь!
Помолясь, землю вспашут, засеют
и ждут:
Даст ли Бог урожай, иль напрасен был труд.
И однажды постигла беда этот край:
На корню от засухи сгорел урожай.
Что тут делать?
Голодный надвинулся год.
Подтянул пояса деревенский народ!
И молилась Феврония день и всю ночь
И просила у Господа горю помочь.
И помог. Хлеб пекла она из лебеды,
А о нем говорили: «Вкусней нет еды!
И откуда у девки такая мука?
Не с нечистым ли знается? Наверняка!»
А Феврония за ночь хлебы напечет,
А чуть свет —
у избы уж собрался народ.
Раздает она хлеб и хватает его
Всем, всегда.
Обделенного — ни одного.
Вот и стали в деревне тогда примечать:
Вроде вправду в Февронии есть
благодать.
Помогает она. Потихоньку народ
Обращаться к ней стал.
И на помощь идет
Она всем и всегда. Ночь — полночь — ей не труд.
Заболеет ли кто —
вмиг за нею бегут.
Со скотиной несчастье —
опять же за ней.
И бесплатно она выручала людей.
Ну а люди… Добро забывают они.
Снова злятся, завидуют средь суетни.
Только что
чуть в ногах не валялись у ней,
- минула беда — оскорбляют сильней.
(...)
СЛОВО ЧЕТВЕРТОЕ
О женитьбе Петра и Февронии, их княжении, уходе из Мурома и возвращении
Сколько там миновало, не ведаю, дней,
Но приехал вновь князь за любимой
своей.
Все чин-чином, с подарками.
И преклонил
Перед нею колени, и так говорил:
— Ты, Феврония, знай:
я не шутки шучу,
А законным супругом твоим стать хочу.
Без тебя, право слово, не мил мне весь свет.
Вот я перед тобой. Дай же мне свой ответ.
— Ладно, Петр, я отвечу тебе.
Ты мне люб.
Хоть бываешь порою и пьян ты, и груб.
Но друг другу мы Богом назначены. Знай:
Брак священное дело, и им не играй!
Встань же, князь.
У крестьянки валяться в ногах
Неприлично тебе.
В этом мире все — прах.
Все: и княжий престол, и богатство,
и лесть.
Есть Господь в небесах.
И душа у нас есть.
Так давай же обет свой дадим мы
Ему,
Чтоб двоим нам с тобою быть,
как одному:
Вместе жить, вместе делать все,
вместе — и в гроб.
Так по жизни пройти рука об руку, чтоб
Перед Богом вдвоем непостыдно предстать
И венцы получить, обрести благодать.
Ты согласен ли с этим? —
Да,— молвил он ей.
— Что ж, тогда я супругою буду твоей.
Будем вместе мы Божии делать дела.
И она, как супруга, его обняла.
И с почетом ее князь в свой терем
везет
И на свадебный пир созывает народ.
(...)
СЛОВО ПЯТОЕ
О праведной кончине святых супругов и последовавших за нею чудесах
Русь была одеялом лоскутным тогда…
А уж к землям ее подходила Орда.
Ненавидя соседей,
лишь власть возлюбя,
Каждый то одеяло тянул на себя.
Пятьдесят было княжеств на русской земли,
И поладить друг с другом они не могли.
Киев бился с Черниговым, Тмутаракань
Билась с ними обоими. Галич, Рязань —
Все сражались друг с другом
за земли, за власть.
Православная кровь,
как водица, лилась…
И пылали в тех междоусобных боях
Города. По полям ветер пепел и прах
Разносил. Пахло гарью в просторах степных.
Ликовали лишь звери.
Был праздник для них.
Волки, хищные птицы на наши поля
Собирались, слетались, добычу деля.
Все сулило беду. В те лихие года
Было знамений множество.
Как никогда…
То в июле, в Петров день,
вдруг выпадет снег
И метель заметет. То нежданно для всех
В январе вдруг такая жара настает,
Что клубнику, грибы собирает народ!
То пылают во мраке столбы из огня,
То вдруг темень настанет
средь ясного дня.
То засуха, то мор, то пожары, то град!..
«Близок света конец!»,— все кругом говорят.
— Как, Февроньюшка, думаешь ты обо всем?—
Петр супругу спросил.— Что за крест мы несем?
— Где же бабьим умом мне такое постичь?
— Ну а все же?
— Я думаю: то — Божий бич.
Отступили от веры мы и от любви,
Захлебнулись во злобе своей и в крови.
Вот Господь и наслал эти беды на Русь.
А что дальше-то будет, о том не берусь
И подумать. Но предчувствую:
будут те беды, мой свет,
Тяжелей и страшнее сегодняшних бед!
— Что же делать, Февроньюшка?
Как же нам быть?
— Больше Богу молиться да ближних любить.
Пусть обильно вокруг
проливается кровь,
Не оружие все побеждает — любовь!
И важнее всего не богатство, не власть,
А душа.
Как бы в адскую бездну не впасть.
Вот о чем помышлять должен
каждый из нас.
Много ль проку в богатстве,
коль душу не спас? (...)
Петр с Февроньей тогда на молитву встают.
Пред иконами слезы горючие льют.
Просят Господа, чтоб вразумил
и помог,
Чтоб не бросил в беде.
И услышал их Бог.
И когда они спали, явился во сне
Светлый ангел обоим в небесном огне.
И сказал: «Вас услышал Господь.
Послан я
Возвестить Его волю.
Должны чрез три дня
Вы уйти в монастырь.
Там, в молитвах, в трудах,
Путь закончить земной в один день. И когда
Вы отправитесь —
каждый в обитель свою —
Я, Господь говорил, дождь на землю пролью!
Вот Февронья и Петр восстают ото сна,
И дорога дальнейшая им уж ясна.
И по семьям беднейшим Февронья
пошла,
Все свои сбережения им раздала.
Опросила прощенья у всех и сама
Всех простила. Ну, вот уж готова сума
И одежда в дорогу…
А Петр в эти дни
Брата Павла призвал. Рядом сели они.
Петр ему говорит: —
Брат мой милый, прощай!
Ты теперь будешь князем.
И мне обещай,
Что исполнишь все то, что скажу я тебе.
— Все исполню!
— Так вот. Богу верь, не себе.
Силу Божию всею душою пойми.
Люди — что?
Лишь орудия Божьи они.
Только к Богу иди. Если вера тверда,
Утешенье и помощь подаст Он всегда.
Будь ко всем справедлив.
Не взирай на лицо
И одежду. Умей различать подлецов
И хороших людей. Тем, кто хвалит тебя,
Ты не верь. Это злые враги, не друзья.
Если правду ты хочешь узнать о себе,
Ты к друзьям не ходи —
те не скажут тебе.
Обратись ты к врагам.
Правду скажут они.
Быть умей милосердным.
Народ свой храни.
Время ныне жестокое: слезы да кровь.
Но сильнее всего в этом мире —
любовь!
И в бою, и в беде не оставит, спасет.
Кто не знает любви, всех несчастнее тот.
Все ты понял?
— Все, брат,— тихо Павел сказал. (...)
Петр приходит к Февронии.
Ждет уж она.
Во светлице своей у резного окна.
Все! Мирские дела завершили они.
Загораются в душах иные огни.
С этим суетным миром все связи почти
Уже прерваны. К Богу теперь их пути.
И сидят они, и друг на друга глядят
Так, как будто навеки запомнить хотят.
И молчат перед вечной разлукой. Слова
Тут уже не нужны. Все они —
как трава.
Как трава и как листья, что ветер несет.
Слышат души призыв с высших — Божьих! — высот.
Так, без слов, все друг другу сказали
они.
Вот и все. Их земные кончаются дни.
Начинается Вечность.
Молчанье — устам.
И любовь их теперь уж продолжится там…
Вот Феврония встала, к столу подошла.
Свои звонкие гусли тихонько взяла.
— Дай спою тебе песню.
В последний уж раз.
Больше, милый мой, песен
не будет у нас.
Да и встречи не будет на этой земле.
Ну а в небе…
Что в небе, то скрыто во мгле.
И запела Феврония. Песнь полилась.
И, склоняясь, всей душою внимает ей князь…
ЛЕБЕДИ
Прощальная песня Февронии
«Летела лебедушка со другом
со лебедем.
И в небе высоко им хотелось летать.
Летела лебедушка со другом со лебедем
Во страны далекие. Отсель не видать.
Летела лебедушка над русской
земелькою
И видела с высоты весь бедный народ.
Летела лебедушка над русской
земелькой,
Где счастье не водится,
лишь лихо живет.
И что люди сделали?
Чем Бога прогневали?
За что же им горькая судьбина дана?
И била лебедушка крылами-то белыми,
И так-то пронзительно кричала она!
Летела лебедушка со другом со лебедем
Над темною, сирою над русской землей.
Летели стремительно.
Покою им не было.
Их души томилися печалью-тоской.
Земля им казалася сплошною пустынею.
А им надо Господа, Его благодать…
И так они скрылися. Ушли в небо синее,
В высоты вышние.
Отсель не видать…»
Песня кончена. Вот и в дорогу пора.
Поднялися они и пошли со двора,
Загасив навсегда во светлице огонь.
Петр — в один монастырь,
а Февронья — в другой.
Только вышли Февронья и Петр,— на пути
Вдруг обрушился ливень,
отвесный почти.
Дождь идет! Хлещут струи небесной воды!
Все смывают: пыль, сор,
грешной жизни следы.
Скоро новая жизнь возрастет, расцветет,
Напоенная влагой небесных высот!
Дождь идет!
В этих струях услышали б мы,
Как звучат и сияют Давида псалмы!
Как прекрасно, как радостно ливень пошел!
Значит, будет и в нашей земле хорошо.
И пожары угаснут, и битвы, и боль.
И сквозь пепел и кровь прорастает любовь!
(...)
О дальнейшем лишь коротко можно сказать:
Сокровенна, укрыта от глаз благодать.
Петр в монашестве именовался Давид,
Ефросиньей — Феврония.
Как говорит
Нам предание, славно трудились они
На монашеском поприще.
Духа огни
В них горели.
И хоть жили порознь, но все ж
В один день отошли с миром
к Господу. Что ж,
Вот сказанье уже и к концу подошло.
После смерти их дивное произошло:
Их тела оказалися рядом. Когда
Разлучили их — вновь стали вместе. Тогда
Стало ясно всем —
это Божественный знак.
Разлучить тех, кто любит, нельзя уж никак.
Среди лета, в цветущей и яркой поре,
Схоронили их в Муроме, в монастыре.
И сейчас там их мощи святые лежат
И больных исцеляют, и семьи хранят.
Со скорбями своими течет к ним народ.
И кто верует, помощь всегда обретет.
Был я в Муроме. Был у гробницы святой
Уже старый и неизлечимо больной.
И в молитве своей я о том лишь просил,
Чтобы Петр и Феврония дали мне сил
И любить, и прощать.
И что в жизни дано,
Все нести терпеливо. От Бога оно.
Неуютно сейчас на просторах страны.
Над Россией вновь тучи,
грозны и черны.
Извратились сердца. Нету веры, любви.
Все — на злобе, обмане, деньгах
и крови.
И, грозя, роковой приближается час…
О, святые супруги! Молитесь о нас!

Яков ШАФРАН
(г. Тула)
 Член Академии российской литературы, член Союза писателей и переводчиков при МГО СПР, лауреат всероссийских ли-тературных премий: «Левша» им. Н.С. Лескова и «Белуха» им. Г.Д. Гребенщикова, премии русских писателей Белоруссии им. В. Блаженного, зам. гл. редактора — ответственный секретарь всероссийского ордена Г.Р. Державина литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори», основатель, гл. редактор и составитель литературно-музыкального альманаха «Приокских зорь» «Ковчег». Награжден литературными медалями. Автор 4-х книг прозы и 3-х — поэзии. Член творческого клуба «Московский Парнас». Полная биография автора опубликована в «Циклопедии»
Член Академии российской литературы, член Союза писателей и переводчиков при МГО СПР, лауреат всероссийских ли-тературных премий: «Левша» им. Н.С. Лескова и «Белуха» им. Г.Д. Гребенщикова, премии русских писателей Белоруссии им. В. Блаженного, зам. гл. редактора — ответственный секретарь всероссийского ордена Г.Р. Державина литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори», основатель, гл. редактор и составитель литературно-музыкального альманаха «Приокских зорь» «Ковчег». Награжден литературными медалями. Автор 4-х книг прозы и 3-х — поэзии. Член творческого клуба «Московский Парнас». Полная биография автора опубликована в «Циклопедии»
http://cyclowiki.org/wiki/Яков_Наумович_Шафран .
ЗВЕЗДА ДЕТСТВА
***
Огненной краской заката залиты
Ближних угодий холсты.
Вяз одинокий в горячей молитве,
Руки воздевши, застыл.
***
Белые туманы
Кроют берега.
Холода нежданны,
Ежится река.
С дедушкою в лодке.
Тихий плеск весла.
Я учусь в охотку:
Вот крючок, блесна…
Рядышком токует
Пара глухарей,
Соловьи тоскуют:
— Солнце бы скорей.
И, взывая к свету
Тишиной молитв,
В кисею одетый
Синий лес стоит.
***
Красочным закатом небо расцвело.
Солнце красным оком смотрится
в стекло.
Тишина в округе, только пенье птиц —
Наших предзакатных и рассветных жриц.
Но вот кот персидский, потеряв покой,
Сладко облизнулся, выгнулся дугой,
За лучом погнался, думая, что мышь.
Снова наступила благостная тишь.
Низенько над полем — первая звезда.
Кто-то за сиренью тихо шепчет: «Да»...
В детстве так спокойно, жизнь вся впереди.
Там тепло и ясно, не идут дожди...
***
Край мой милый, край хороший —
Детства незабвенный край.
Старый домик, в землю вросший,
Сад и роща — просто рай.
Летом — сад, деревья, крыши,
Наша детская война.
Мамин зов: "Домой!" — не слышим,
Заигрались допоздна.
И еще любили очень
Старых воинов рассказ:
Летом — лавочка до ночи,
А зимой — у лампы час.
Не смиряется сознанье
С тем, что их на свете нет.
Так свежи воспоминанья,
Хоть промчалось столько лет.
Край мой милый, край хороший —
Детства незабвенный край.
Старый домик, в землю вросший…
Только в памяти тот рай.
***
Где ты, детство мое безбедовое,
Беззаботная радость моя,
Когда утро — рождение новое
И грядущего светит заря?..
Все прошло. И потери, утраты
Предвещает мне песнь соловья.
Друг за другом восходы, закаты.
Друг за другом уходят друзья.
И погода… Дождей и ненастий
Стало больше в сторонке моей.
И о бедах одних и напастях
Все поет и поет соловей…
Но, когда вспоминаю я детство,
Сердцем вновь посещаю тот край,
Получаю как будто в наследство
Незабвенный сиреневый май.
***
Вот первые тени рассветные лягут
на росы,
И редкий туман заклубится
в низинках полян,
По ветру березки, ленясь, расплетут свои косы,
К воскресшему солнцу босой тогда выйду и я.
И трели пернатых певцов вмиг
душой овладеют,
И ноты мелодий взлетят
по линейкам лучей,
И храма кресты, купола чьи вдали голубеют,
Весь свет поднебесный вберут
позолотой своей.
Люблю эту раннюю пору за новь воскресенья,
Где прошлого раны врачую касаньем ума,
Грядущего где еще робкие тени-виденья
Приходят ко мне, как обрывки
чудесного сна.
***
Я проснулся с рассветом, и снова
остался далече
Мир, наполненный светом,
звучаньем божественных слов.
Погружалась душа в небосвод,
что был странно расцвечен,
Всей палитрой дыша откровений, иллюзий и снов.
Убегают минуты и тают в завесе
тумана,
Что остаточной смуты скрывают ночные следы,
Как над дивной землей темноперые птицы обмана
Все порою ночной накликают набеги беды.
Но в полоске рассветной ярчайшей на небе звездою
Призывает нас светлой надеждой
на промысел дня
Того мира огонь, что ведет нас
к победе над тьмою,
Тот огонь, что не блекнет и в солнца лучах для меня.
Я прошел по росе, босиком свою землю лаская,
Каждой жилкой своей ощутил
безмятежный покой.
Как доверчива ты, страна, ты,
моя дорогая.
Как ответственны мы, дорогая страна пред тобой!
Елена
ПОЛЕТАЕВА
(г. Самара)
 Член Российского союза профессиональных литераторов, член Российского Авторского общества. Лауреат поэтических и песенных конкурсов. Диплом победителя в международном конкурсе «Средь мо-ря зла есть вещий островок…» в номинации песня. Работы опубликованы в 20-ти коллективных сборниках, а также в журналах и альманахах. На ее стихи написано более 50 песен. В 2015 году издан авторский сборник стихов «Древо жизни».
Член Российского союза профессиональных литераторов, член Российского Авторского общества. Лауреат поэтических и песенных конкурсов. Диплом победителя в международном конкурсе «Средь мо-ря зла есть вещий островок…» в номинации песня. Работы опубликованы в 20-ти коллективных сборниках, а также в журналах и альманахах. На ее стихи написано более 50 песен. В 2015 году издан авторский сборник стихов «Древо жизни».
ОТЧИЙ ДОМ
Родней, дороже нет земли,
Чем та, где вновь сердца забьются.
Покинув гавань, корабли
Мечтают все домой вернуться.
Круты у жизни берега.
Нас жизнь на прочность проверяет.
Тепло родного очага
В любую стужу согревает.
На свете множество дорог,
Но все же милостивы боги:
Зовет к себе родной порог,
К нему несут нас наши ноги.
Неважно сколько кому лет,
Мы все проходим жизни школу.
Согреет душу окон свет
И тронет за сердце любого.
Всегда нас примет отчий дом
И настежь дверь свою откроет.
Та встреча ближе с каждым днем,
Душа с надеждой ждет покоя.
СМЫСЛ БЫТИЯ
Вьется дым тонкой струйкой над крышей,
В нашем доме тепло и светло.
Тихий глас добрых предков услышан,
И от сердца опять отлегло.
Дом бревенчатый, ставни резные,
Окна ласково смотрят на юг.
Душу греют мне стены родные,
В каждом бревнышке пращура дух.
Оживает скрип старой калитки,
Уголек в самоваре горит…
Старины здесь далекой в избытке,
Мне о многом она говорит.
Возле дома старушки-березы
Все в листве золотого литья.
Да, я счастлива. Что за вопросы?
Помнить прошлое — смысл бытия.
РИФМЫ
Сколько было тревог! Сколько было дорог!
Сколько было надежд и волнений.
Лишь осталась подошва от старых сапог,
Да еще голенище сомнений.
Я катилась вперед, как резиновый мяч,
Сохраняя былую упругость.
И стояла судьба надо мной, как палач,
Но сдружилась я с ней, как с подругой.
Я люблю просевать те года, как пшено,
Через времени редкое сито,
И ссыпать в закрома золотое зерно,
Чтоб и в голод быть рифмами сытой.
МАМИН ОБРАЗ
Хлеб испечь — то не работа.
Это — добрые дела.
Помню я, как по субботам
Мама хлеб для нас пекла.
В кадке глиняной месила,
Подсыпая все муку
И, сажая в печь, крестила,
Ставя ближе к угольку.
Той молитвы православной
Все слова знакомы мне.
Стала корочка румяной,
Хлебный дух по всей избе.
Проявляет милость небо,
К звездным тайнам нас влечет.
Вкус родной земли у хлеба,
На земле добро живет.
Каравай лежал, томился
На расшитом рушнике…
Вновь улыбкой засветился
Мамин образ вдалеке.
Нина
ГАВРИКОВА
 (г. Сокол
(г. Сокол
Вологодской
области)
РОДНАЯ
СТОРОНКА
Прилетают домой перелетные птицы.
Сохраняя веков неразрывную связь.
Я в родную сторонку хочу возвратиться,
Чтоб увидеть лугов разноцветную бязь.
Чтоб послушать, как годы считают кукушки,
Как задиристо, бойко кричит воробей,
Как звучит серенада болотной лягушки,
Как заливисто песню ведет соловей.
Там стрижи суетливо щебечут над крышей,
Беззаботное детство — родительский дом!
Грусть о русской глубинке дается нам свыше:
Посидеть бы, как прежде,
за длинным столом!
Человеку для счастья-то много ли надо?
Говорок вологодский услышать опять,
Постоять на земле праотцев —
вот награда!
Да не знаю, придется ли там побывать?!
Держит город своими ладонями хватко.
Здесь работа, квартира, друзья и семья.
Но душа не согласна с таким
распорядком —
Зарастает бурьяном родная земля!
Деревенская жизнь для людей — день вчерашний:
Батожок не поставишь у двери входной,
Жил народ на виду без обмана,
без фальши,
А теперь, видно, совесть взяла выходной.
Все! Нет сил! Возвращаюсь в родную сторонку,
Поброжу босиком по заветным местам… На стене осторожно поправлю иконку
И стихи запишу, доверяясь мечтам.
ПЕРВЫЕ ГРИБЫ
Июль! В разгаре сенокосы!
Укрыл густой туман стога.
В рассветной рыжей дымке росы
Умыли сонные луга.
И я, поднявшись спозаранку,
Сбежав от городской тоски,
Нашла заветную полянку
Собрать грибы-колосники.
Вот подберезовик под веткой,
Лисички спрятались в листве,
А белые грибы от ветра
Присели в шелковой траве.
Наполнив доверху корзину,
Вполне довольная собой,
Сказала, разогнувши спину:
— Ну, все! Теперь пора домой!
Спасибо, лес и мать-природа,
За ваши щедрые дары!
Я здесь бываю год от года,
И вы всегда ко мне добры!
Слова вдруг отозвались эхом:
— Всегда, всегда к тебе добры...
Светило солнце и при этом
Пищали громко комары.
ЦЫГАНКА ОСЕНЬ
(Сонет)
Приехала в кибитке кочевой
Цыганка Осень. В теплый темный вечер,
Приветствуя, кивнула головой,
Под звук гитары приподняла плечи,
Взмахнула разноцветным рукавом,
Из листьев, как из карт, сложила веер,
Кружилась быстро в танце колдовском.
А звон монист разнес в округе ветер.
В мой сад вошла, взяла мою ладонь:
— Жизнь без любви — без кнопочек гармонь!
И сердце без любви давно остыло...
— Гадалка, тайну скрытую не тронь!
Давным-давно в душе потух огонь,
И я живу лишь тем, что раньше было!
ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ВЕСНЫ
Не могу отвести упоенного взгляда!
Медуницы цветут — первый признак весны!
Эх, собрать бы их всех, но стою тихо рядом,
Не могу отвести упоенного взгляда!
Будоражит сознанье земная прохлада,
Запах детства, вдохнув с ароматом лесным,
Не могу отвести упоенного взгляда,
Медуницы цветут — первый признак весны!
Сергей РЕДКОВ
(г. Тула)
 Родился в Туле в 1978 г. В 2005 г. окончил МГУ культуры и искусств. Творчеством занимается с 2009 г. Участник МЛО «Муза» при Доме-му-зее В.В. Вересаева. Печатался в газетах, журналах и альманахах Тулы и Украины. Победитель конкурса «Мой Пушкин» (2011 г.). Автор нескольких сборников стихов.
Родился в Туле в 1978 г. В 2005 г. окончил МГУ культуры и искусств. Творчеством занимается с 2009 г. Участник МЛО «Муза» при Доме-му-зее В.В. Вересаева. Печатался в газетах, журналах и альманахах Тулы и Украины. Победитель конкурса «Мой Пушкин» (2011 г.). Автор нескольких сборников стихов.
ГОРИЗОНТ
Горизонт…
Бесконечная линия
Рассекает весь мир пополам —
Небеса с журавлиными клиньями
И земля в изумрудье полян.
Там, где горы, там кардиограммою
Преломляется линия та.
Дуновение ветра над храмами.
За оградой погоста — плита.
Очертания молнии резкие.
В послегрозье пьянящий озон.
И бездонье полей с перелесками.
Дух и плоть. И клинком — горизонт.
***
Мера счастья зависит от скорости
Ниспадающих с неба снежинок:
Если кружат в спокойном режиме —
Ожидайте хорошие новости.
Словно пух опускается хлопьями.
Все машины — как в сахаре пончики.
У ветвей в белых варежках кончики.
Исчезают и беды, и хлопоты.
Но когда вдруг снежок заметелит,
Заметет все дороги безбожно,
То душа встрепенется тревожно —
Станет холодно ей в этом теле.
У огня обогреться захочется.
Будут руки тянуться к камину.
Возжелается чай витаминный.
И в — в постель!
В одеялах ворочаться…
Говоря напрямик, без ужимок,
В жизни будут и счастье, и горести.
Все зависит…
Зависит от скорости
Ниспадающих с неба снежинок.
УЧИТЕЛЬ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Сломался светофор. У перехода
Стоит старушка. Перейти боится.
Машины пролетают хищной птицей.
Шагнуть вперед
сравнимо
прыгнуть в воду.
Никто не остановится. Под руку
Беру старушку и веду по «зебре».
Водитель, тормози!
Что смотришь вепрем?
Как будто уступить — трудна наука!
Идем.
Я на старушку — краем глаза.
Лицо ее мне кажется знакомым.
Ныряю в память, как с разбега в омут.
Так это же — учитель младших
классов!
Я узнаю вас:
помню,
первоклашкой,
Меня водили в школу сквозь машины.
И, как сейчас, тогда визжали шины.
А вы флажком давали им отмашку.
Давно то было.
Только не напрасно
Учили с детства помогать друг другу.
Теперь и я веду вас, взяв под руку.
А значит —
вы учитель первоклассный!
Елизавета
БАРАНОВА
(г. Тула)

Родилась в г. Туле. Кандидат технических наук, доцент. Работает в ТулГУ на кафедре «Информационная бе-зопасность». Стихи пишет с детст-ва. Автор 3-х книг. Пишет прозу. Яв-ляется автором романа «Гармонические колебания» и нескольких лите-ратурных эссе. Публикуется в журналах и альманахах Тулы и других го-родов. Победитель различных конкурсов. Член МГО СПР. Награждена литературными медалями.
***
Не срываясь на крик,
В одиночестве гордом
Пел о счастье родник
Иссыхающим горлом,
Пел
и плакал,
и ждал
Запоздавшую осень,—
Словно, тысячью жал
Колот иглами сосен.
Через день,
через два
Здесь пробьется осока,
А воды полведра
В теремке невысоком,
А воды — по глотку
Из неполной криницы,—
Никому-никому
Всласть теперь не напиться.
Заходила гроза
И вела свои стрельбы
По скрипящим возам
С ароматами мельбы…
По чуть-чуть на бегу
Благодать расплескалась,—
Подошла к роднику
Утолить жажду старость.
Вился аист над ним,
Шил зарю-багряницу,
Чтобы аистов клин
Смог в нее облачиться,
Чтобы вымолить дождь
У небес птичьим словом,—
Каждый аист похож
В облаках на святого.
Вдаль смотрел бережок
Голубиками грустно,—
Только он сбережет
Родниковое русло,
Только счастье — вода…
Лес, пригнувшись от ветра,
Целовал родника
Приоткрытое веко…
МОНАСТЫРСКИЙ БОЛЬШАК
I
Покороче бы день,
Подлиннее бы ночь —
До зарянкиной «трень»
Я спешу растолочь
Звездный камень в золу,
Лунный камень в песок.
Помогать не зову
Сновиденья осок.
Только слышу сквозь стук
Благородных камней —
Гонит ветер-пастух
Облака, как коней,—
Свист задорный в ушах.
А как все надоест,
Выхожу на большак
Слушать птиц благовест,
Слушать, как под землей
Посреди позолот
Ввысь царевной-змеей
Шумно речка ползет.
II
…Здравствуй, путник, смотри —
Это сад — это рай —
Все, что видишь внутри,
Не стыдясь, забирай,
Придержи, не рассыпь
Из пригоршней своих
Самоцветы росы
С хризантем золотых.
От любой худобы
Росы с тех хризантем,—
Ты по миру ходи —
Их показывай всем.
А как все надоест,
По рублю станет шаг,
Слушать птиц благовест
Приходи на большак,
Приходи посмотреть,
Как небесной зари
Осыпается медь
В кладовые земли.
III
…Свет от звезд и луны
Превращу в порошок,
Даже злой белены
Подкормлю корешок,—
На бушующий сад
Росы выпасть спешат.
Гостю каждому рад
Монастырский большак.
А мне — не было б бед.
В этом всем — видит Бог —
Мой монаший обет
И садовничий долг.
IV
Славься, мой птичий край,
Птичий мой монастырь!
Прославляй, краснобай,
Сухостоев кресты,
Сад, где горе — не в счет,
Иерейский кушак,
Чудо рос, а еще —
Монастырский большак!
Людмила
СЕНИНА
(г. Тула)
 Родилась 30.09.1961 г. в г. Алексине Тульской обл. Педагог, поэтесса. В 1980 г. окончила Тульское педагогическое училище № 1, в 1985 — исторический факультет Тульского госпединститута (ныне ТулПГУ). Преподает историю в ЦО № 42 г. Тулы. Стихи и песни на ее стихи опубликованы в нескольких поэ-тических и песенных сборниках. Музыка песен написана ее супругом композитором Сергеем Сениным.
Родилась 30.09.1961 г. в г. Алексине Тульской обл. Педагог, поэтесса. В 1980 г. окончила Тульское педагогическое училище № 1, в 1985 — исторический факультет Тульского госпединститута (ныне ТулПГУ). Преподает историю в ЦО № 42 г. Тулы. Стихи и песни на ее стихи опубликованы в нескольких поэ-тических и песенных сборниках. Музыка песен написана ее супругом композитором Сергеем Сениным.
СЧАСТЬЕ
Нет ни долларов, ни евро,
Нет коттеджей у меня.
И к крыльцу не подадут мне
Супермодного «коня».
Нет богатых дядей, тетей.
Ставки делать — страсти нет,
Но дано судьбою счастье
Мне взирать на белый свет.
И за облаком мохнатым
Видеть солнца яркий луч,
Подставлять свои ладони
Каплям, падающим с туч.
И не прятаться от ветра,
Дует в спину он иль в грудь,
И идти вперед дорогой,
Что ведет куда-нибудь…
Жизнь меня всегда учила:
— Человеком надо быть!
Мне дано такое счастье:
Быть любимой и любить!
***
Солнце смотрит с небес,
Дарит людям тепло.
Мне с тобою, любимый,
Даже ночью светло.
Дождь идет проливной.
Зеленеют поля!
От улыбки твоей
Хорошеет Земля!
Дует ветер ли злой,
И бушуют моря…
Ты со мною, любимый,
И живу я не зря.
ЕСЛИ РЯДОМ ЛЮБИМЫЙ
Если рядом любимый,
синей небеса,
И, как в детстве когда-то,
верю я в чудеса.
Если рядом любимый,
трава зеленей,
И костер моих чувств
полыхает сильней.
Если рядом любимый,
лето зимой,
Все спокойно вокруг,
и в ладу я с собой.
Если рядом любимый,
сердце громче стучит
И душа о любви моей,
молча, кричит.
Если рядом любимый,
искрятся глаза,
На ресницах дрожит
восхищенья слеза.
Если рядом любимый,
счастливая я,
Без него же
всего половина меня.
ЧУВСТВА
Снова чувства накатили.
Снова вся душа горит.
Сердце словно подпалили —
Без тебя оно болит.
Знаю, скоро ты приедешь
(До чего же трудно ждать),
Вместе — суток не заметишь…
Век разлуки бы не знать.
Дорогой, родной, любимый!
Для тебя не жалко слов.
Самый лучший, самый милый!
Наяву, без всяких снов.
В АВТОБУСЕ
Я мчусь к тебе, любимый мой!
С «безумной» скоростью автобуса.
И без труда найду твой дом,
Хоть карты нет, нет даже глобуса.
Дождь за окном — незваный гость:
Стучит-стучит, не утихает,
А остановки — в горле кость,
Кондуктор их не пропускает.
Я в мыслях, милый мой, с тобой.
Водитель, жаль, о том не знает.
А потому автобус свой
Увы! Несильно подгоняет.
Одно лишь радует меня,
Что встреча уж не за горами.
Приду, скажу: «А вот и я!
Встречай с любовью и цветами!»
***
Порхают, будто мотыльки,
снежинки
Стайкой легкой, белой…
Подумать только, отчего
Я стала вдруг безумно смелой?
Его сама я обняла,
Потом сама поцеловала,
Потом еще, еще, еще…
И все казалось мне, что мало!..
Потом хотелось мне взлететь,
Парить над миром, замирая!
Хотелось мне парить и петь…
Он рядом, и не надо рая!
Я знаю, краток жизни миг.
В любви тот миг еще короче.
Кто счастья истину постиг,
Тот не считает дни и ночи!
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Уж давно седина побелила виски,
И бороздки морщин разукрасили лоб,
И хотелось порою завыть от тоски…
Как вдруг сердце рвануло
Прямо с места в галоп.
Застучало, забилось, того и гляди,
Не удержишь, и выпрыгнет вон из груди.
Что случилось? В чем дело?
Волнуется кровь.
А случилась… случилась!.. случилась
любовь!!!
***
Мне давно не семнадцать,
И не тридцать уже.
Умудрилась влюбиться —
Не прикажешь душе.
Возраст — он не помеха,
Чтоб всем сердцем любить.
И, хотя бы немного,
Чтоб любимою быть.
Кошки ночью все серы,
Как и жизнь без тебя.
Не хочу годы мерить.
Я хочу жить любя.
Олеся
Маматкулова
(г. Алексин Тульской обл.)
 Преподаватель биологии. Автор 3-х сборников стихов. Имеет публикации в «Приокских зорях» и во многих альманахах и сборниках. Лауреат районных, тульских и московских литературных конкурсов. Участница областного МЛО «Муза» при Доме-музее В.В. Вересаева (г.Тула, руководитель Виктория Ткач). Член Союза писателей России.
Преподаватель биологии. Автор 3-х сборников стихов. Имеет публикации в «Приокских зорях» и во многих альманахах и сборниках. Лауреат районных, тульских и московских литературных конкурсов. Участница областного МЛО «Муза» при Доме-музее В.В. Вересаева (г.Тула, руководитель Виктория Ткач). Член Союза писателей России.
***
Журавлей молчаливая стая
Покидает родимый свой край,
Ветер листья-страницы срывает —
Истончал отрывной календарь.
Поле черное стынет под зябью,
В сердце — камень и в горле — ком.
В ночь осина, замерзнув, по-бабьи,
Плечи желтым укрыла платком.
Лужи серые в мелких мурашках.
Дни короче, а сумрак длинней.
И немного становится страшно
Перед долгой дорогой к весне.
Перед вьюгой, хандрой и морозом —
Что там будет? Понять невдомек.
Уповать нелегко на прогнозы,
Но в душе я храню огонек.
И пока жизни смысл не потерян,
Слишком прочно завязана нить,
Остается — безропотно верить,
Просто верить и верою жить.
***
Устав кутить, бесцельно маясь,
Брела по городу метель.
Снежинок вспугнутая стая,
Кружась, спешила сесть на ель.
А та стучала мягкой лапой
В мое окно, прося тепла.
Но я, согревшись светом лампы,
Гостей так поздно не ждала…
Душа в минорном настроенье
Мольбы не слышала в тот час.
Метались в небе черном тени,
Витала в комнате печаль.
Сюжеты снов кроила полночь,
Тоску пытаясь побороть...
Казалось, мне спешит на помощь,
В окно стучится сам Господь…
***
Дождь развесил хрустальные шторы,
Еле брезжит сквозь них белый свет.
Служит осень безмолвным укором
За ошибки растраченных лет.
Кто беспечен был, кто-то бесстрашен,
Кто ценил выше чувств своих медь...
Клен листвой, точно крыльями, машет,
Будто хочет на небо взлететь.
Словно жаждет оставить заботы
И печали на бренной земле.
Труб печных горько стонут фаготы,
Провожая прохожих во мгле.
Им, в делах бесконечных погрязшим,
Мир свободы неведом, незрим.
Вслед за ними, безумно уставший,
Бродит ветер — седой пилигрим.
Так по жизни кочует покорно
Человек в суматохе времен.
Прочно держат кудлатые корни,
И роняет листву старый клен…
Галина ЛЯЛИНА
(г. Донской Тульской обл.)
 Родилась в г. Донской Тульской обл. Член Академии российской литературы (староста туль-ской группы) и СПР. Внештатный корреспондент «Донской газеты». Член Новомосковского ЛИТО и Тульского православного клуба «Ковчег». Печатается в коллективных сборниках и альманахах. Автор 6-ти книг стихов. Дипломант и лауреат многих конкурсов. Лауреат Тульской литпремии им. Я. Смелякова (2013 г.).
Родилась в г. Донской Тульской обл. Член Академии российской литературы (староста туль-ской группы) и СПР. Внештатный корреспондент «Донской газеты». Член Новомосковского ЛИТО и Тульского православного клуба «Ковчег». Печатается в коллективных сборниках и альманахах. Автор 6-ти книг стихов. Дипломант и лауреат многих конкурсов. Лауреат Тульской литпремии им. Я. Смелякова (2013 г.).
ЖЕЛТЫЕ, КРАСНЫЕ
ЛИСТЬЯ
Красные, желтые, цвета бордо
и кармина
Листья кружат на холодном осеннем ветру.
Рдеют пунцовые гроздья на ветках
рябины,
С ветром холодным они не вступают
в игру.
Ждут-поджидают они снегирей и синичек,
Чтобы их ягодой терпкой своей угостить.
А у раскидистых елей все гуще реснички —
Хочется им красотой хоть кого-то пленить.
Желтые, красные листья и цвета кармина
Кружатся плавно и дальше по ветру летят.
Неба лазурь перемешана с аквамарином,
И продолжается огненный пляс-листопад.
ВСЕ ДАЕШЬ ТЫ
ВО СПАСЕНЬЕ
Слава, Господи, Тебе!
За минуты вдохновенья,
За счастливые мгновенья,
Что мне выпали в судьбе.
Со смиреньем все приму.
Пусть, что должно, то свершится
И судьбою разрешится
По веленью Твоему.
Я Тебе принадлежу
И душой своей, и телом.
Счастье — жить на свете белом,
Этим счастьем дорожу.
Было все в моей судьбе.
Были взлеты и паденья.
Все даешь Ты во спасенье,
Слава, Господи, Тебе!
МОЙ ТУЛЬСКИЙ КРАЙ
На заре слышу звон колокольный.
Это все не во сне — наяву.
Тульский край мой широкий, раздольный,
В нем я с самого детства живу.
Здесь знаком и любим каждый кустик,
Каждый холм у развилки дорог,
Лес и роща с березовой грустью,
И тропинка на отчий порог.
С давних пор здесь встречаю рассветы
И любуюсь на солнца восход.
Надо мной василькового цвета
Распахнулся шатром небосвод.
Воздух утренний свежий и пряный,
Хоть дыши, хоть глотками испей,
А вокруг голубые поляны
Красотой восхищают своей.
Глянешь в небо — там цвет
васильковый…
И в полях васильки расцвели.
А река изогнулась подковой —
Оберегом для Тульской земли.
РУССКИЙ ДУХ НЕРУШИМ
Распахнись необъятная даль,
Не туманься дождями косыми.
Раствори вековую печаль,
Что застыла в глазах у России.
Настрадалась она за века,
Много видела горя и боли.
Сила духа ее велика
И спасала не раз от неволи.
Эта сила от предков-славян
Проявляется в ней и сегодня.
Невозможно сломить россиян —
В этом высшая воля Господня.
Русский дух, как всегда, нерушим!
Видно, многие это забыли.
Мы любого врага сокрушим,
Превзойдя и в смекалке, и в силе.
Не удастся Россию согнуть.
Недруг, думай, пока что не поздно.
Ей указан особенный путь
Сквозь преграды и тернии —
к звездам!
Настрадалась Россия в веках.
Отсверкали над нею все грозы.
Шар земной у нее на руках
И живая вода в родниках,
И любимые наши березы.
Анна БАРСОВА
(г. Екатеринбург)
 Родилась в г. Харькове 29.12.1948 г. в семье военного инженера-же-лезнодорожника и врача. Окончила филологический факультет Ереванского ГУ, по специальности — филолог, культуролог. После окончания работала в г. Набережные Челны, на строительстве КАМАЗа, создавала детские и молодежные творческие коллективы, преподавала в пединституте г. Елабуги, работала замдиректора «Динас» ОАО КАМАЗ. С середины 90-х гг. возвращается к пре-подавательской деятельности, работа-ет в Набережночелнинском филиале Московского университета культуры и искусств и школе театрального искусства. С 2012 г. занимается творческой и научной деятельностью.
Родилась в г. Харькове 29.12.1948 г. в семье военного инженера-же-лезнодорожника и врача. Окончила филологический факультет Ереванского ГУ, по специальности — филолог, культуролог. После окончания работала в г. Набережные Челны, на строительстве КАМАЗа, создавала детские и молодежные творческие коллективы, преподавала в пединституте г. Елабуги, работала замдиректора «Динас» ОАО КАМАЗ. С середины 90-х гг. возвращается к пре-подавательской деятельности, работа-ет в Набережночелнинском филиале Московского университета культуры и искусств и школе театрального искусства. С 2012 г. занимается творческой и научной деятельностью.
ИЗ ЦИКЛА « КАПЛИ»
***
Я научилась жить,—
другой не будет жизни,—
терпеть, седеть, но быть,
не думая о тризне!
***
Что из того, что лик другой
у рыжего огня?!
Круг предначертанный, земной
пройдет — и он, и я!
***
Растеряла годы,
растеряла дни,
но остались всходы —
внученьки мои!
***
Стало мне холодно очень.
Это пришла зима!
Я не заметила, Отче,
Стала седой сама!
***
Доброта, как вода,
без нее никуда,—
ни дышать и ни петь,
ни с надеждой глядеть!
***
Облачко к седой горе прижалось,
на вершине вековой качалось,
кисеей ажурной обернулось,
в изумрудный край слезой вернулось!
***
Как, осень, ты караешь все вокруг
своей немилостью и болью!
Мне не хватает лета жарких рук
и слов, напоенных любовью!
***
Осень уходит прочь,
словно прохожий в ночь.
Гостьей она была,
побаловав, ушла!
***
Ночь обнимает белый свет,
Конца и края ему нет,
Садится на мое плечо
И в лоб целует горячо!
Натали
СИЛАЕВА
( г. Серпухов)
 Силаева Наталия, ро-дилась в 1989 г. Псевдо-ним «Натали». Творчес-твом занимается с 2005 г. Начала писать стихи в школе. Имеет многочисленные грамоты и дипломы. Автор 2-х сборников стихотворений. Публику-ется в коллективных сборниках, альманахах, в журнале для детей, а также в газете «Серпуховские вести» и других региональных СМИ. Натали начинала под руководством Р.А. Кудрявцевой и В.Ю. Ткач. Состоит в Московском Со-вете ЛитО при СПР. В 2010 г. стала инициатором, создателем и руководителем молодежного ЛитО г. Серпухова «Клио. В 2014—2016 гг. получила стипендию Губернатора Московской обл. молодым талантливым авторам, на которую совместно с участниками «Клио» издала книгу под названием «Когда Литература Искренность От-ражает…» (часть 1), и планирует издать коллективный сборник произведений для детей от 6 до 12 лет.
Силаева Наталия, ро-дилась в 1989 г. Псевдо-ним «Натали». Творчес-твом занимается с 2005 г. Начала писать стихи в школе. Имеет многочисленные грамоты и дипломы. Автор 2-х сборников стихотворений. Публику-ется в коллективных сборниках, альманахах, в журнале для детей, а также в газете «Серпуховские вести» и других региональных СМИ. Натали начинала под руководством Р.А. Кудрявцевой и В.Ю. Ткач. Состоит в Московском Со-вете ЛитО при СПР. В 2010 г. стала инициатором, создателем и руководителем молодежного ЛитО г. Серпухова «Клио. В 2014—2016 гг. получила стипендию Губернатора Московской обл. молодым талантливым авторам, на которую совместно с участниками «Клио» издала книгу под названием «Когда Литература Искренность От-ражает…» (часть 1), и планирует издать коллективный сборник произведений для детей от 6 до 12 лет.
***
Ну, здравствуй, счастье, заходи!
Я думала, ты не вернешься,
Что заблудилось ты в пути
И помощи не дозовешься...
Теперь в душе моей покой.
А что дрожишь? Чего боишься?
Я разделю свой дом с тобой!
Я верила: ты постучишься!
А вот и чайник подоспел...
Присядь, устало ты с дороги!
У нас с тобой так много дел...
Ну что ж стоишь все на пороге?
Давай-ка радость пригласим
И звонкий смех, и вдохновенье.
Их сладким чаем угостим!
Пусть будет вечностью мгновенье!

***
Мы умираем, ожидая,
И сердце биться устает.
Мы новое не принимаем,
Ведь память изнутри все жжет.
И в прошлое вернуться рады,
И ищем столкновенья с ним...
Но не найти нигде услады,
Ведь каждый миг неповторим.
***
Ты приезжай ко мне однажды...
Да просто так: побыть вдвоем.
Каким бы ни был день тот важным,
Я отложу все на потом.
Я отключу все телефоны
И заварю любимый чай.
Посмотрим новое кино мы...
Не пустим на порог печаль.
Потом уснем в одной кровати,
Наговорившись о судьбе.
Я расскажу... хотя, некстати...
Нет, промолчу — прижмусь к тебе.
Ты приезжай ко мне однажды —
Пусть будет общий выходной.
Ведь все становится неважным,
Когда душа — с душой родной.
Наталья
ШЕСТАКОВА
(г. Брянск)
1958 г. рождения. Кандидат филологических наук, доцент. Член Брянского областного литобъединения. Автор сборника стихотворений «Время липового цвета» (2016). Дипломант Международного литературного конкурса «Небесный город» (номинация «Поэзия Небесного Города, стихотворения)».
БАБУШКА ТАНЯ
Сказочной белой царевной
Старая вишня цветет,
Где-то в далекой деревне
Бабушка Таня живет.
В хате, дворе, огороде,
Старой привычке верна,
Вечно в трудах и заботе
Таня с утра до темна.
Выросли дети, внучата
Взрослыми стали давно…
Тане — девятый десяток.
Сколько еще суждено?
Жизнь пролетела мгновенно,
Лиха отмерив сполна.
Бабушка Таня смиренно
Век доживает одна,
В отдыхе или в работе —
Все ожидает письма…
Осень кружит в непогоде,
Скоро наступит зима…
ВОРОЖБА
Достану карты, на черном блюде
Зажгу свечу.
Что было — знаю, а вот что будет —
Узнать хочу.
В сырых лощинах кружатся тени,
Клубясь в ночи.
Двенадцать ровно. Застыло время
В огне свечи.
Из темных впадин туманы вышли,
И лунный кот
В ночное небо, урча неслышно,
Меня зовет.
Вдруг оживают все масти сразу
В урочный миг,
И озирает цыганским глазом
Ночь дама пик.
Мелькают карты, и шепчут губы:
Жива любовь?
Случится ль чудо — и наши судьбы
Сплетутся вновь?
Вопрос услышан. Качнулась вечность
В глазах слепцов.
Врата открылись, и смотрит Нечто
В мое лицо...
Но предсказуем и осторожен
Судьбы ответ.
Вещают карты: случиться — может,
А может — нет.
ТРИ МЕСЯЦА ОСЕНИ
Сентябрь незаметно, как рыжая
кошка,
В мой дом закрадется и лето прогонит,
Поплачет, роняя слезу на окошко,
Цыплят — сосчитает, ворон —
проворонит.
А пегий октябрь, весь пропахший капустой,
Легко перечтет среди трав
пожелтевших
Плодившихся лихо в весеннем безумстве
Пугливых зайчишек, к зиме
поседевших.
Ноябрь, оголенный до кожи древесной,
Гипюр белоснежный примерит капризно,
Напомнит постом про Святое
семейство…
Так было. Так будет. И ныне, и присно…
Николай
ТИМОХИН
(г. Семипалатинск,
Казахстан)

ТОМУ, КТО ЖИЛ
В НЕВОЛЕ
ГОРОДСКОЙ
Кто в городе жил долго, как в плену,
Влюбленным станет в ясный небосвод,
Молитву выси он произнесет,
Мольбой наполнив звездную страну.
Почувствует тот счастье всей душой,
Кто обретет покой в траве волнистой.
Быль о любви он прочитает чистой,
О страсти светлой, нежной и простой.
А возвращаясь вечером домой,
Услышит Феломины песнопенье.
И облака плывущего покой
Вдруг ощутит, подумав с сожаленьем,
Что день, сравнимый с ангела слезой,
Подходит незаметно к завершенью.
ТРИ СОНЕТА ЖЕНЩИНЕ
1-й сонет
Когда тебя, о, женщина, порой,
Я замечаю ветренной, тщеславной,
Заносчивой по-детски, но забавной,
Ты все равно, мне нравишься любой!
И хочется тотчас пуститься в пляс,
Прочувствовать душой порыв
страстей,
Чтоб насладиться милою своей
И восхититься ей в который раз.
Когда бываешь доброю со мной,
Мне прелести твои ласкают взгляд.
И за тебя готов я стать стеной,
Как славный рыцарь, много лет назад.
Хоть я и не такой, как он, герой,
Но заслужить твою любовь я рад.
3-й сонет
Кто не забудет милое созданье?
Кто не заметит прелести ее?
Она мужчинам радости несет,
И, как ягненок, требует вниманья.
Всевидящий, не дай погибнуть ей.
И помоги сберечь девичью честь.
Обманщиков вокруг не перечесть.
Не знает пусть она бесславных дней.
Я вновь во власти этой красоты
И слышу музыку ее души.
Рождая снова о любви мечты,
Опять звучит мелодия в тиши.
Она в беседке, а в руке — цветы.
И встретиться уже со мной спешит.

Кирилл
ПРУДКИЙ
(г. Тула)
 Выпускник факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого, научный сотрудник музея-усадьбы «Ясная Поляна», автор и исполнитель собственных песен. Участник литературно-музыкальной студии «Вега». Лауреат многих конкурсов.
Выпускник факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого, научный сотрудник музея-усадьбы «Ясная Поляна», автор и исполнитель собственных песен. Участник литературно-музыкальной студии «Вега». Лауреат многих конкурсов.
СОМНЕНИЕ
Сомнение, сомнение —
Слабости безверие,
Серая материя,
Черта решето.
Сомнение, сомнение —
Жизнь без утешения,
Беспутное скольжение
Во «все предрешено».
Сомнение, сомнение —
Диагноз самомнения…
Как местоимение —
Имя, да не то!
Сомнение, сомнение —
Знамение прозрения.
Полет после падения —
Пропасть с высотой!
Владимир
ГУДКОВ
(г. Тула)
 в журналах «Природа и человек», «Приокские зо-ри», «Ковчег», «Пегасик». Издал две книжки стихов для детей: «Тучка, слон и два жирафа», «Птичья азбука». Детские стихотворения в 2011 г. вошли в сборник «Лучшие стихи для малышей».
в журналах «Природа и человек», «Приокские зо-ри», «Ковчег», «Пегасик». Издал две книжки стихов для детей: «Тучка, слон и два жирафа», «Птичья азбука». Детские стихотворения в 2011 г. вошли в сборник «Лучшие стихи для малышей».
***
Твоя душа прекрасна и чиста,
Как водопад с игривою форелью!
Пусть обжигают нежные уста
Слова любви весеннею метелью
И с губ слетают соловьиной трелью!
РОДНИК
Склонились к речушке плакучие ивы —
Под сенью зеленой пробился родник:
С восторгом он смотрит младенцем наивным
На мир, где в тиши начались его дни.
Чуть слышно родник напевает
про то, как
Снежинки черемух уносит вода,
Как тучка плывет, отражаясь в протоке,
И щедро кукушка пророчит года!
Ольга
БОРИСОВА
 Самара)
Самара)
АПРЕЛЬ
Апрель. Седьмое. Вы-ход-ной!
На стеклах луч плетет узоры.
Соседи громко за стеной
Ведут о чем-то разговоры…
Смотрю в окно… Спешит старик,
(Он этажом живет пониже);
Красивый был, видать, мужик!
И, говорят, что жил в Париже.
Поэтом слыл в чужой стране,
В салонах гостем был желанным.
Теперь один... По чьей вине
Жильцом отныне безымянным?..
А вот дворовый рыжий пес,
В лучах купаясь, греет спину.
Он зиму еле перенес —
Плешивый, старый... Жалко псину!
На ветке клена — воробей.
Кричит пострел на всю округу.
Давай, пернатый, не робей!
Зови в гнездо свою подругу!
Весна смеется за стеклом,
Ее восторженно встречаю.
Согретая живым теплом,
Спешу на кухню выпить чаю.
ИЗ ПЕРЕВОДОВ:
Красимир ТЕНЕВ
(Болгария)
РАСПРОДАЖА ВОСПОМИНАНИЙ
На улочке тихой вдали от базара,
под липой цветущей старушка стоит.
Она от болезни коварной устала.
Оперлась на палку, несчастна на вид.
А рядом скамейка и книги — рядами,
она продает их. Ей не на что жить…
Асфальт раскалился и пышет углями,
и пусто вокруг, ни единой души.
Стою и смотрю на ее раритеты —
названья знакомы, ничтожна цена.
Духовно богата, успел я отметить.
«Взгляните на три!» — предложила она.
— «Трилогия это… Возьмите…
Беляев…
Нужны на лекарства мне деньги опять…
Мои эти книги… И каждый здесь знает…
Но боль изнутри продолжает
терзать…»
А голос ее, как и прежде, был
звонкий…
И вдруг я увидел, как в фильме немом:
она — молодая, за партой — девчонки
и мы — мальчуганы… Она за столом…
Две мутных орбиты глаза те сегодня,
и малой надежды в них нынче уж нет.
Была поэтессой по воле Господней,
красавицей знойной слыла много лет…
Оставил измятых я двадцать ей левов…
… На первой странице читаю потом:
«Супруге Елене, моей королеве,
В твой день юбилея!
С душевным теплом!»
Ники КОМЕДВЕНСКА
(Болгария)
ЛОШАДИ
Путь закончен. Сейчас им куда?
Побелели глаза их от боли.
Погнала в степь лошадок беда,
убежали они из неволи.
От кнута обезумев совсем
(лупцевал их нежадно хозяин),
мчались кони, не зная зачем,
дальше в степи от сельских окраин.
Обрели (показалось им) путь,
вместе с ним — и покой, и свободу.
Без ярма! Их теперь не вернуть…
Путь закончен… А дальше —
нет ходу.
Ломовые, смиренны они —
не щадил кнут истерзанной кожи.
Ты под ноги стезю протяни,
пожалей их, всевидящий Боже!
Истомившись от долгой жары,
проклиная свободу стократно,
Они ищут с той самой поры
пару рук, что вернут их обратно.

Елена
СЕМЕНОВА
(г. Москва)
 Писатель, поэт, пуб-лицист, драматург. Гл. редактор портала "Архипелаг Святая Русь", литературно-обществен-ного журнала «Голос Эпохи» и сайтов, посвященных Белому Движению. Автор 10 книг. Специалист по истории Белого Движения и 1-й половины ХХ века. Автор "На этнической войне", о геноциде русских в республиках бывшего СССР.
Писатель, поэт, пуб-лицист, драматург. Гл. редактор портала "Архипелаг Святая Русь", литературно-обществен-ного журнала «Голос Эпохи» и сайтов, посвященных Белому Движению. Автор 10 книг. Специалист по истории Белого Движения и 1-й половины ХХ века. Автор "На этнической войне", о геноциде русских в республиках бывшего СССР.
Я БУДУ ПЕТЬ СЕГОДНЯ
ЛИШЬ ДЛЯ ВАС
Я буду петь сегодня лишь для Вас.
Все наши песни память сохранила.
А к ним спою еще один романс,
Который Вам однажды посвятила.
«Я Вас люблю!» — избитые слова.
Их слишком часто всуе повторяют.
И все-таки любовь всегда права
И никогда избитой не бывает.
Гитарных струн звенящий перебор...
Я Вам пою. И выше счастья нету,
Чем Ваших глаз, тепло дарящих, взор,
Чем голос Ваш, усталый, но приветный.
Весна любви цветет один лишь раз,
И только раз бывают в жизни встречи.
Я буду петь сегодня лишь для Вас,
И лишь для Вас зажгу в ночи все свечи.
В ХРАМЕ
Убелилась душа, точно снегом,
И рождественский близится пост.
Возвратившись из прежнего века,
Снова в церковь иду через мост.
Хлеба горсть в реку бросила птицам,
Тяжела ледяная вода.
Вы сегодня мне будете сниться,
Не встречавший меня никогда.
Я, как тень, на крыльцо поднимаюсь.
В темном храме лампады дрожат.
В самом дальнем углу растворяюсь,
И взмывает, яснея, душа.
Бьются четки в ладонях холодных,
И святые слова льются с уст,
И внимает молитве Угодник,
И отходит на время та грусть.
Льется в сердце мне тихое пенье.
Для себя ничего не прошу.
Осеняяся крестным знаменьем,
Ваше имя родное твержу.
ТОЛЬКО ЖИВИ!
Я ТЕБЯ ЗАКЛИНАЮ
Только живи! Я тебя заклинаю.
Будь мне чужим и далеким навек.
Рядом с тобою пусть будет — другая.
Рану мою — занесет нежный снег.
Я пережду непогоду безмолвно.
Может, еще подтянусь, истончусь...
Я укрощу тишиною альковной
Сердца мятеж и распутицу чувств.
Только живи! Не пади от ударов,
Витязь без лат и без трона король...
Были с тобой мы прекрасною парой —
Птахи небес? Перекатная голь?
Только окликни — и я пред тобою.
Хоть босяком ты последним слыви.
Все твои скорби участьем покрою,
Только прошу тебя, светлый, живи!
Только живи! И молясь пред киотом,
Я повторяю: далекий, живи!
Ведь и сама я живу год за годом
Только лишь волей и верой любви...
Любовь
САМОЙЛЕНКО
(г. Тула)
 Родилась в г. Днепродзержинске, Украи-на. Член ЛитО НЛО (г. Новомосковск) и «Пегас», православного клу-ба «Ковчег», Общественного фонда «СВЕТОЧ» (Москва). Член Российского Межрегионального Союза писателей и Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина (С.-Петербург). Член Че-ховского общества при СПР. На-граждена памятными медалями. Пу-бликуется в журналах, альманахах и сборниках. Автор 13 книг.
Родилась в г. Днепродзержинске, Украи-на. Член ЛитО НЛО (г. Новомосковск) и «Пегас», православного клу-ба «Ковчег», Общественного фонда «СВЕТОЧ» (Москва). Член Российского Межрегионального Союза писателей и Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина (С.-Петербург). Член Че-ховского общества при СПР. На-граждена памятными медалями. Пу-бликуется в журналах, альманахах и сборниках. Автор 13 книг.
В КРАСКАХ…
Подрамник,
натянутый холст…
И новая беличья кисть.
Река, голубеющий мост…
В ладошке осиновый лист.
Задумчив сегодня мой взор.
Я в красках хочу показать:
И лес, и небесный простор,
И рощи осеннюю стать…
Сентябрьский денек так хорош!
Ему не подвластна тоска.
Он с зорями летними схож,
И дружба меж ними крепка.
В прожилках осиновый лист.
С любовью смотрю на него.
Он в золоте солнца лучист…
В картину внесу и его…
Задумчив сегодня мой взор.
Я в красках хочу показать:
И лес, и небесный простор,
И рощи осеннюю стать…
ИЗ РАЗНЫХ МИРОВ…
Мы из разных с тобою миров. Но в созвездии ярких планет,
В лабиринтах рожденных стихов
Часто вместе встречаем рассвет.
Вечерами, открывши окно,
Яркой россыпью звезд я любуюсь.
Понимаю, нелепо, смешно…
Только встреч этих жду и волнуюсь.
Мы любители разных цветов…
Ты зеленого, я голубого.
Нами сказано множество слов
О прекрасности мира земного.
Летним днем я пишу твой портрет.
В теплых строках ты мне отвечаешь.
И когда с липы падает цвет,
Угощаешь меня вкусным чаем.
Мы из разных с тобою миров.
Но в созвездии ярких планет,
В лабиринтах рожденных стихов
Часто вместе встречаем рассвет.
СЕНТЯБРЬСКАЯ КАРТИНА…
Осень, осень! В вальсе листья
В яркой солнечной поре.
Холст, подрамник, краски, кисти
Подготовлю в сентябре.
Оживет моя картина.
Передаст и синь небес,
И как алая калина
Очаровывает лес…
И поляну, и осинку.
Солнца яркие лучи.
И прогретую тропинку,
Где отлета ждут грачи.
И меня в лазури света
С золотистою листвой,
В бликах нежного рассвета
Любовавшейся красой.
Валерий
ДЕМИДОВ
(г. Тула)
 Родился 17.05.1948 г. в г. Болохово Тульской обл. Окончил историко-филологический факуль-тет ТГПИ им. Л.Н. Тол-стого. Трудился рабочим, преподавал. Более 10 лет работал в ряде газет Тульской обл. Член Союза журналистов СССР. Печатается в журналах и альманахах. Автор 2-х книг и альбома с песнями на свои стихи.
Родился 17.05.1948 г. в г. Болохово Тульской обл. Окончил историко-филологический факуль-тет ТГПИ им. Л.Н. Тол-стого. Трудился рабочим, преподавал. Более 10 лет работал в ряде газет Тульской обл. Член Союза журналистов СССР. Печатается в журналах и альманахах. Автор 2-х книг и альбома с песнями на свои стихи.
СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
Я в хмурых лицах стариков
Ищу черты друзей старинных,—
Бывает, бомж в чужом трико
Дороже, чем богач с Неглинной.
Вот, зябко плечи приподняв,
На друга Кольку так похожий,
Уставшим взглядом на меня
Взглянул весь сгорбленный прохожий.
И я, не в силах грусть сдержать,
Поклон ему отвесил низко,
А он не стал мне возражать
И убеждать, что он — Дениска.
Жизнь поломала круто нас,
И не узнать в старушке Оле
Девчонку, что любил весь класс
И все мальчишки в нашей школе.
А этот маленький толстяк
Когда-то был худым Алешкой.
И пусть друзья меня простят,
Но все похожи лишь немножко.
Я каждой встрече с прошлым рад,
Хотя друзья в другом обличье,—
Тепло становится стократ
Вокруг меня и в жизни личной.
Имен их время не сотрет
И память будет помнить вечно
Весь класс и двор, хоккей и лед,
Футбол и девочек, конечно.
В друзьях так много изменений,
Но в каждой встрече есть особый
Язык души, язык волнений
И дружбы самой высшей пробы.
НЕДРУГАМ
Знаю, вы за моей спиной
Ухмыльнетесь и будете рады,
Когда буду лежать больной,
Ожидая могильной ограды.
Осторожность — вот ваш удел,
Как и ваша убогость мыслей.
Вы, ваятели грязных дел,
Угрожали: «Расправимся мы с ним!»
Но я шел напролом всего
И боролся с вороньей стаей,—
Вы же прятались от тревог
И еще успешнее стали.
Вы прилипли ко мне, как репей,
Даже высказаться не дали,
И я раны нес и терпел
Там, где вы получали медали.
Вы по ветру держали нос,
Пролезали в любую дырку
И десятки судеб под снос
Завизировали под копирку.
Что слова вам мои и боль?
Что призывы не мучить совесть?
Вы всегда любовались собой,
Не вкусив и щепотку соли.
Вы ценили случайный фарт,
Обходили житейские лужи
И могли слух любой и факт
Сделать сильным своим оружием.
Жизнь расставит все по местам
И отделит правду от фальши.
Вам земной возведут пьедестал,
Я же в вечность отправлюсь дальше.
Валерий
ВИНОГРАДОВ
(Алексин Тульской обл.)
 Член СП России, ав-тор трех поэтических сборников, имеет публи-кации в тульских и московских альманахах.
Член СП России, ав-тор трех поэтических сборников, имеет публи-кации в тульских и московских альманахах.
ПРИЗНАНИЕ
Хороших слов немало
Звучит в осенней тишине,
И пусть тепла не стало,
Любовь еще живет во мне.
Кружит листва, играя,
Дожди занудно бьют в окно,
На беды невзирая,
Спешу я к милой все равно.
Сквозь годы и ненастья,
Храня чуть тлеющий огонь,
Желаю снова счастья
И в руки взять твою ладонь.
И как рябина алая
Дрожит, страдая на ветру,
Душа моя усталая
Летит к любовному костру.
СНЕГОПАД
За окном зима ярится,
Все засыпал пришлый снег,
Ветер злобно в дверь стучится,
Прерывая свой разбег.
Пелена закрыла дали,
Шаль накинул мерзлый лес,
На поля туманы пали,
Солнца луч совсем исчез.
Непогода и ненастье,
Будто две родных сестры,
Наколдовывают счастье,
Обходя подряд дворы.
Непорочным белым цветом
Укрываются следы,
Став преградою наветам,
Недоступной для беды…
Не жалеет свои силы,
Все бросает в бой зима,
Снегом землю завалила,
Наполняя закрома.
Алена
АЛЕЩЕНКОВА
(г. Москва)
 Родилась в г. Мос-кве. Окончила Московский ПедГУ, специаль-ность — практический психолог-консультант. Длительное время работала в социальной сфере. Стихи начала писать в юности. Автор 2-х сборников поэзии. Публикуется в альманахах. Номинант премии «Образ 2016».
Родилась в г. Мос-кве. Окончила Московский ПедГУ, специаль-ность — практический психолог-консультант. Длительное время работала в социальной сфере. Стихи начала писать в юности. Автор 2-х сборников поэзии. Публикуется в альманахах. Номинант премии «Образ 2016».
ЗАКАТНОЕ
В беспросветном величии,
В веснооком сиянии
Щебетание птичье
 Как небес покаяние.
Как небес покаяние.
Небосводно-лазурное
Превращается в алое
И, счастливо-безумное,
Льется вдаль небывалую.
Словно руки раскинуты
Ветви белоберезые,
И закатные хлынули
Капли рос сладкослезные.
В быль ушло беспробудную
Все ветров разлихачество,
Чтобы жизнь звездобуквами
Переписывать начисто.
НОЧНОЕ
Темное небо, как синие очи,
Дочки Земли, пробудившейся ночью,
Пристально смотрят, как гаснут закаты,
Словно в отчаянье солнца утраты.
Дрожь пробегает по коже Вселенной —
Ночь наступает законом нетленным,
И по щекам луноликой богини
Слезы скользят, превращаясь в святыни.
Воздух застывший зеркальный и звонкий
Слушает ночью дыханье ребенка,
Птицей садится на спинку кроватки,
С бликом луны наигравшийся в прятки.
Но подвенечное платье рассвета,
Звездно жемчужное, сшитое летом,
Утро наденет и улыбнется.
Дочка земли вместе с солнцем проснется.
Ольга
ПОНОМАРЕВА-ШАХОВСКАЯ
(г. Москва)
ПЕСНИ
Окончила Московский электротехнический институт связи, инжнер-электромеха-ник. Работала в проектных институтах. Стихи и прозу пишет с 1998 г. Публикуется в альманахах. Автор 4-х книг. Подборка стихов вошла в Антологию Современной поэзии «Созвучья слов живых», т.6, изд. «Московский Парнас», 2011 г. Член МСПС и СПР. Имеет награды.
ЛЮБЛЮ
Гравирует мороз на стекле.
Твое имя в узоре храню
Тихо в доме, уютно в тепле —
Одиноко мне в дальнем краю...
Отрешенно качает в тоске
Ветер ветку в искристом снегу,
И ослепший фонарь на крюке
Мне поет: «Не могу! Не могу!»
Припев:
Без тебя мне в жару — холода,
Без тебя только памяти вздох.
Потеряется счастье — тогда
Караулит беда возле ног!
Пусть печаль колыбелят ветра
В забубенную вьюжную ночь,
Точно знаю, настала пора
Нам обиды, беду превозмочь.
Ты прочти на окне письмена,
В них шифровкой печаль стылых лет.
Верю, выпадут нам времена
Встретить вместе весенний рассвет!
Припев.
Потеряется счастье, тогда
Зверем прыгнет беда на порог.
Без тебя мне в жару — холода,
Без тебя только памяти вздох!
ПРИВОРОТ ВЕСНЫ
Неспешно падал крупный снег,
И тучи серые клубились,
Весна совсем не торопилась
Порадовать приходом всех.
Припев:
Исчезнут веки снежных туч,
Проникнет в сердце солнца луч,
Разбудит песню о любви
В чертоге Лиры.
Прилет грачей, латанье гнезд,
И оперенье детских грез
Разбудят песню о любви
Великой к миру.
В дома прохожие забились,
На улицах не слышен смех,
Мне одиноко, как на грех.
Господь, яви свою Ты милость!
Припев:
Исчезнут веки снежных туч,
Проникнет в сердце солнца луч,
Разбудит песню о любви
В чертоге Лиры.
Прилет грачей, латанье гнезд,
И оперенье детских грез
Разбудят песню о любви
Великой к миру.
Дай солнцу ярко засиять,
Чтобы пригреть людей и живность,
Чтоб хорошо у тех сложилось,
Кто хочет доброе начать!

Ирина
НАЗАРОВА
 (г. Серпухов
(г. Серпухов
Московской
области)
СКАЗКА О ДОКТОРЕ КЛЕНЕ
Где встречают меня
Фонари без огня,
Где желтит чистотела цветок,
Знает каждый кусток
И любой водосток
Эту сказку почти на зубок.
Где лежит у берез
Тень от ивовых лоз,
Там, где вяз разрядился, как царь,
Сквозь дорожную пыль
Эту сказку и быль
Для тебя мне поведал Фонарь.
***
Жил да был доктор Клен.
Медицинский закон
Знал, как пальцы свои на листке.
От людей до котов
Он любого готов
Был принять у себя во дворе.
За лекарства свои
Из росы и зари
Доктор Клен не просил ни гроша,
И лечил просто так,
Не за звонкий пятак:
За улыбку и смех малыша.
О его доброте
Разлетались везде,
Точно капли лекарства, слова.
И когда поутру
Приходили к нему —
Занимали порой полдвора.
А у старой двери,
Что хранит от зари
Свой единственный мутный глазок,
Спрятав ноги в ревень
Жил завистливый Пень
Да глядел целый день на песок.
И досадно ему,
Что любому цветку
Доктор Клен и любим, и знаком;
Клен у всех на устах:
У людей и у птах,
Доктор Клен, а не Пень; доктор Клен!
Так летели деньки,
Увядали венки
И менялись изгибы дорог...
Пень от злости своей
Стал чернее углей,
А потом захворал, занемог.
Весь в поганках-грибках,
Павиликах-вьюнках
У надменного лика овал...
Даже уши — со мхом!
Делать нечего! Он
К себе доктора Клена позвал.
«Ты здоров, бородач,—
Отвечал ему врач,
Собирая зеленую сныть,—
Ну а чтобы опять
Листья к небу пускать,
Надо добрым и вежливым быть!»
***
Где шептунья-трава
Выпевает слова,
Где колышет ветвями сирень,
Ходят слухи средь ив,
Что по-прежнему жив
Подобревший на старости пень.
Где гудят провода,
Где двух улиц чета
Приглашает на праздничный бал,
Там, где листья — нефрит,
Там, где липа не спит,
Эту сказку фонарь рассказал...
Людмила ПЕНЬКОВА
(г. Тула)
 Автор двух поэтических книг. Публикуется в коллективных сборниках Регионального Общественного Фонда со-действия и развития современной поэзии "Светоч" (Москва) и в альманахе «Ковчег».
Автор двух поэтических книг. Публикуется в коллективных сборниках Регионального Общественного Фонда со-действия и развития современной поэзии "Светоч" (Москва) и в альманахе «Ковчег».
***
Было платье на березке,
Стало осени ковром.
Небо — радуга в прическе —
Вслед за громом и дождем.
Были вьюги и метели,
Летних пряностей каскад.
Было все, что мы сумели:
И блаженство, и разлад.
И пускай все то, что было —
Дней уехавших игра,—
Сохранится нами, милый,
В нашем красочном вчера.
И пускай все то, что было,
Как любви чудесный час,
Осветит мудрейшей силой
То, что строим мы сейчас.
***
Что ж ты солнце такое несмелое,
Или март для тебя не праздник?
Смотрит в зиму лихой проказник,
Продолжая январское дело.
Пляшет снег под гитару метели.
Где ж, весна, твой любовный намек —
С неба солнечных ласк ручеек,
Что напишет концерт для капели?
МЫСЛЬ
Слетая непорочным словом с губ,
Она обожествляет жизни путь.
Но мысль способна к тучам
повернуть,
Помочь коварству наточить свой зуб.
Она могуча! В ней — и рай, и ад,
Полеты к звездам и потеря силы,
И плод успеха, что судьба взрастила,
Роль первой скрипки и удачи сад.
Дано гореть ей творческим огнем,
Светить, пылать во имя созиданья!
Так пусть же будет нашим осознаньем —
Ответственность за мысль, что мы куем.
Сергей
ЛЕБЕДЕВ
 (г. Тольятти
(г. Тольятти
Самарской
области)
НЕ ВЕРНУСЬ
Югары*… Деревянная родина,
Отзвеневшие косы в лугах,
Под угором в осоке болотина,
И Ветлуга за лесом в песках.
Избы смотрят пустыми
глазницами,
А «журавль» все о небе грустит,
Только память наполнена лицами,
Только сердце о прошлом болит.
Не цветет в палисадах черемуха,
Лишь крапива везде, лебеда,
Время в окна стреляет без промаха,
Пустотою чернеет беда.
Ты прости, моя милая родина,
Не вернусь я к тебе, не вернусь…
Я в плену у бетонной уродины
Предаю деревянную Русь.
УТРЕННЕЕ
Июльское утро, прохлада,
Укропная пена в росе,
Душа пробуждению рада,
И сердце открыто красе.
А солнце уже по-над Волгой,
Проснулись в лучах Жигули,
И лайнер прошил, как иголкой,
И скрылся в небесной дали.
В кустах воробей торопливый
Чирикнул мне громко «Привет!»,
И плакали глупые ивы —
Увидели утренний свет.
И яблоки летнего сада
Лежат по траве на росе…
Ну что для души еще надо?
И сердце открыто красе.
Татьяна
ШЕЛЕПИНА
(г. Алексин
Тульской обл.)
 Родилась в г. Алексине 27.11.1945 г. Член ЛитО «АЛЛО», руково-дит им с 2012 г. Член ЛитО "Пегас" (Тула) и Московского совета ЛитО. Член СПР, творческого клуба "Московский Парнас", Академии российской литературы.
Родилась в г. Алексине 27.11.1945 г. Член ЛитО «АЛЛО», руково-дит им с 2012 г. Член ЛитО "Пегас" (Тула) и Московского совета ЛитО. Член СПР, творческого клуба "Московский Парнас", Академии российской литературы.
***
Приду на берег нашей речки
И вспомню летние деньки:
Как, отражаясь, словно свечки,
В воде купались поплавки.
А на лугу цвели ромашки —
На них гадали о любви.
И в разноцветные рубашки
Одеты были все цветы.
А в тихой роще, где кукушки
Пророчили нам всем судьбу,
Святой источник, и подружки
Для чая брали воду ту.
Еще я вспомнил летний вечер,
Как я девчоночке одной
Отдал кулек конфет при встрече,
И стала мне она женой.
Стою и молча вспоминаю…
А предо мною та ж река,
И то же солнце обнимает
Уже седого старика…

К 9 МАЯ.
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ
ПОБЕДЫ
День весенний. День Победы,
Нынче юбилейный он.
На параде наши деды,
Слышат все медалей звон.
С каждым годом все труднее
Приходить им на парад.
Только хочется скорее
Праздничный надеть наряд.
И пройтись парадным строем,
Чтобы видела страна —
Много их, живых героев,
На груди их — ордена.
А в строю не только деды:
Посмотрите, целый ряд,
Все они несут букеты,
Это бабушек отряд.
На войне сражались вместе
И победою горды.
Очень рады, что невесты
Жизнь продолжат без беды.
Ветераны очень рады
В этот славный день весны:
Дети рядом — вот награда
Победителям войны.


ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, Литературная
ПУБЛИЦИСТИКА
И критика,
РЕЦЕНЗИИ
ВАЛЕРИЙ МАСЛОВ
СЕРГЕЙ ОДИНОКОВ
РУДОЛЬФ АРТАМОНОВ
Валерий МАСЛОВ
(г. Тула)
 Маслов Валерий Яковлевич родился 6.11.1945 г. в г. Донской Тульской обл. в семье рабочих. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию (1970). Работал управляющим в совхозе «Красный богатырь» (1969—1971 гг.), спецкором обл. газеты «Коммунар» (1971—1973 гг.), пом. председателя Тульского облисполкома (1973-1991 гг.), пресс-секретарем главы администрации Тульской обл. (1991-1994 гг.). Директор обл. фонда поддержки творческой интеллигенции (с 1994 г.). Печатается как прозаик с 1973 г. Член СП СССР (1986 г.), Председатель межрегионального СП (с 1998 г.). Награжден медалями «20 лет Победы» (1966 г.), «Ветеран труда» (1989 г.), нагрудным знаком ВЦСПС (1977 г.) и многими другими. Лауреат многих литературных премий. Заслуженный работник культуры РФ (1993 г.).
Маслов Валерий Яковлевич родился 6.11.1945 г. в г. Донской Тульской обл. в семье рабочих. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию (1970). Работал управляющим в совхозе «Красный богатырь» (1969—1971 гг.), спецкором обл. газеты «Коммунар» (1971—1973 гг.), пом. председателя Тульского облисполкома (1973-1991 гг.), пресс-секретарем главы администрации Тульской обл. (1991-1994 гг.). Директор обл. фонда поддержки творческой интеллигенции (с 1994 г.). Печатается как прозаик с 1973 г. Член СП СССР (1986 г.), Председатель межрегионального СП (с 1998 г.). Награжден медалями «20 лет Победы» (1966 г.), «Ветеран труда» (1989 г.), нагрудным знаком ВЦСПС (1977 г.) и многими другими. Лауреат многих литературных премий. Заслуженный работник культуры РФ (1993 г.).
ГЕНИЙ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
О Льве Николаевиче Толстом написано, пожалуй, уже все. Поэтому я хотел бы сосредоточиться на личных воспоминаниях, переживаниях и случаях, связанных в моей жизни с этим великим именем. И начну не со школьных воспоминаний, когда меня, вместе с одноклассниками, возили из города Донского в кажущуюся такой далекой, сказочной и привлекательной Ясную Поляну, а в более поздние, осмысленные годы.
Одним из первых моих заграничных вояжей еще в советское время была туристическая поездка в Ирландию. Поздно вечером, когда улеглись спать бдительные руководители группы, я отправился в ночное путешествие по Дублину. Надо сказать, что денег на такси у меня не было, и гулять по ночной столице мне пришлось исключительно пешком. Забрел я очень далеко, а моя гостиница была на самой окраине города. И я, конечно, заблудился.
Выхода не было: надо было спросить дорогу у кого-то из местных жителей. В одном из темных переулков я увидел парня и девушку возле автомобиля. Спросил их по-английски, как пройти до такого-то отеля. Во мне, конечно, сразу узнали иностранца. Гостеприимно предложили подвезти.
В дороге мы разговорились. Моими спасителями оказались обычные старшеклассники. Они сразу поинтересовались, откуда я. Назвал город Тулу.
— Тула, Тува...— стали что-то припоминать школьники.
Нет, такого города они не знали.
Тогда я произнес имя моего знаменитого земляка.
— О! — сразу оживились ирландцы.— Толстой! Ясная Поляна!
Вот тогда я первый раз понял, насколько знаменит наш земляк, как он велик и всемирно известен!
Ясную Поляну я очень люблю. Приезжаю сюда всегда, когда появляется свободная минута. Здесь нахожу отдохновение, черпаю новые творческие силы, встречаю хороших знакомых и друзей. Надо сказать, что в советский период жизни страны этот чудесный уголок переживал не самые лучшие времена. Нет, здесь был хороший музей, сюда приезжали толпы экскурсантов. Но облик всемирно известной усадьбы подчас зависел от прихоти какой-нибудь номенклатурной особы. Помню, как перед очередной юбилейной датой нашего великого земляка, сюда прибыла с проверкой колоритная дама — заместитель председателя облисполкома, которая курировала культуру. На историческом «прешпекте», ведущем к дому Толстого, она слегка подвернула ногу и чуть не сломала каблук своей драгоценной туфли.
После этого последовал грозный приказ: заасфальтировать эту дорогу. Робких возражений музейных работников, что это нарушит исторический облик, сохраняемый в усадьбе на день смерти великого писателя, дама просто не заметила.
А зря: ушла на пенсию «чиновница от культуры», прошли годы, и новому директору усадьбы, праправнуку писателя Владимиру Толстому пришлось убирать асфальт, восстанавливать исторический облик усадьбы своего прадеда.
Справедливости ради надо сказать, что, в отличие от чиновников местного ранга, правительство РСФСР понимало важность сохранения в неприкосновенности родины Льва Толстого. Помню, какие баталии развернулись вокруг строительства федеральной трассы Москва-Симферополь, проходящей по территории Тульской области.
Сторонники экономии государственных средств предлагали про-вести ее в непосредственной близости от Ясной Поляны. Тогда бы экология и без того страдающего от близости Щекинского химкомбината «Азот» заповедника пострадала еще больше. Казалось, их аргументы победили: федеральная трасса стремительно приближалась к заповеднику. Но здравый смысл, заявления общественности, возражения экологов были услышаны: правительство решило вести строительство дороги вдали от исторического места, хотя уже была проведена насыпь сорока километров трассы.
Вот на какие огромные затраты пошло советское правительство, чтобы не навредить наследию великого русского писателя, прославившего не только Тулу, но и Россию на весь мир!
С другой стороны, излишняя щепетильность в этом вопросе ино-гда здорово мешала позитивному развитию родины писателя. Какие страсти в восьмидесятые годы прошлого столетия кипели вокруг сооружения в непосредственной близости от усадьбы музейно-гостиничного комплекса! Талантливый тульский архитектор Ша-тохин вместе с группой сподвижников спроектировал такой комплекс, в котором современная постройка не мешала зрительному восприятию старинной усадьбы.
Но нашлась куча завистников, которые на все лады кричали, что это сооружение нарушит дух и колорит музея. В результате комплекс не построили, хотя на него выделялись деньги, и мы имеем то, что имеем. Например, крохотную, неуютную, вечно переполненную кафешку с претенциозным названием «Прешпект». А раньше, в отдельном, теперь снесенном здании, размещалось предприятие общественного питания высшего класса с превосходным ассортиментом вин, закусок и вторых блюд — в этом кафе-ресторане вахтовым методом работали лучшие официанты и повара города Тулы. Отсутствие музейного фондохранилища, в котором планировалось создать условия хранения документов и работы сотрудников по мировым стандартам. И подобие гостиницы в бывшем доме отдыха с умопомрачительными ценами на проживание.
А ведь многим гостям музея-усадьбы, в том числе и тулякам, хотелось бы подольше побыть именно в Ясной Поляне, проникнуться мыслями Льва Толстого в долгих прогулках по окрестностям усадьбы. Короткой пробежки в групповой экскурсии по толстовским местам, конечно, очень мало, чтобы постичь величие гения, проникнуться его мыслями и взглядами.
А вот самого Льва Николаевича Тула к себе манила. В его дневниках имеется великое множество упоминаний о поездках в наш город. Да что там поездки! Это сейчас, современному туляку, кажется невероятно трудным пешком одолеть десять километров, отделяющих легендарную усадьбу от промышленного центра. Мы будем долго ждать переполненный автобус, чтобы проехать в нем одну — две короткие остановки.
Но Лев Николаевич, хоть и был графом, барином, имел в своем распоряжении конюшню с кучером и прислугой, не гнушался пешком пройтись в Тулу.
«Погода чудная,— записал он в своем дневнике 20 марта 1865 года.— Здоров. Ездил в Тулу верхом. Крупные мысли!» Вот как полезно далеко ездить верхом на лошади: очень хорошо развивает мыслительный процесс. К тому же, полезно для здоровья.
1 июня 1864 года: «Косить не нужно было, и потому пошел в Тулу за товаром… В Туле закупил товар и вернулся домой бодро…» Вот так: пешком не только в город, но и назад. Значит,— двадцать километров. Причем, еще и с закупленным товаром. А было писателю в то время уже 56 лет. Даже по нынешним меркам — уже пожилой человек. В те же времена Антон Чехов писал в одном из рассказов: в комнату вошел старик тридцати лет…
Гений Толстого проявлялся во всем, и в здоровье тоже. Ходил пешком наш великий земляк и в град престольный — Москву. И уже тогда, при жизни, его знала вся Россия, да и мир тоже. Не случайно, в письме литературному критику А.В. Дружинину он так называет свой адрес в Ясной поляне: «Адрес мой — в Тулу просто». Другому своему корреспонденту Толстой тоже сообщает: «Мой адрес всегда — Тула».
Уже одним этим литературный гений прославил наш город. Тула теперь навечно срослась с Ясной Поляной. Почти как у Маяковского: говорим Тула, подразумеваем Ясная, говорим — Ясная, подразумеваем — Тула.
Да и поработать служащим писатель в Туле успел. В качестве канцелярского служителя Тульского губернского правления тридцатипятилетний Лев Толстой работал в здании, которое и поныне прекрасно сохранилось на проспекте Ленина, 36.
Впрочем, вчерашнего студента Казанского университета служба не очень прельщала. Сохранились воспоминания, согласно которым он «ни одного дня целиком не просидел в канцелярии» (Н.Н. Гусев, впоследствии секретарь Толстого).
А вот общественная деятельность была писателю очень интересна. Он принимал активное участие в работе Тульского губернского собрания. Служил мировым посредником, участвовал в кружке педагогов, избирался почетным попечителем Тульского реального училища.
И, несмотря на высокое положение в обществе, на графское звание и богатство, был открыт и доступен простому народу, с жадным вниманием относился к людям из самых разных сословий, старался не выделяться одеждой и манерами.
В этом смысле примечателен случай, описанный другом Толстого, тульским судебным деятелем Н.В. Давыдовым.
В зале тульского Дворянского собрания проходили репетиции пьесы Толстого «Плоды просвещения». Во время одной из них сторож доложил Давыдову, что «какой-то мужик, по-видимому, трезвый, желает непременно видеть меня и требует, чтобы его пустили в залу». «Мы его и гнали уже, да не идет»,— добавил сторож. Я побежал вниз в швейцарскую, догадавшись, кто этот мужик, и, через несколько минут, ввел в залу, к великой радости участвовавших в пьесе, Льва Николаевича, принятого за «мужика» сторожами ввиду его более чем скромной одежды».
Видимо, и поэтому так поразила первая встреча с Толстым великого русского режиссера К.С. Станиславского. Она произо-шла в доме Давыдова (теперь улица Гоголевская, 47), куда писатель также приехал в крестьянском тулупе. Правда, в отличие от того сторожа, внимательный режиссер обратил внимание не на одежду. Его поразили глаза Толстого: «то острые, колючие, то мягкие, солнечные, в которых блестели искры гениального художника».
Надо сказать, что великий писатель охотно помогал начинающим литераторам. Так он с вниманием отнесся к рукописи комедии молодого крестьянина Ивана Журавого, который служил в трактире в Туле. Толстой помог ему напечатать рассказ «Посредник», про который сам выразился так: «Грубо, страшно, но правдиво». О том, насколько широк был круг тульских знакомых писателя и почитателей его таланта, говорит даже такой их далеко не полный перечень: губернатор М.В. Арцимович и вице-губернатор Л.Д. Урусов, дочь декабриста и поэта К.Ф. Рылеева, начальник оружейного завода В.Н. Бестужев-Рюмин, семья Дельвигов — родственников поэта А.А. Дельвига и многие другие.
Очень прочные связи установились между семьями Толстого и другого тульского губернатора — Н.А. Зиновьего. Однако наш великий земляк никогда не поступался принципами. Как только губернатор принял участие в «усмирении» крестьян села Бобрики Тульской губернии (ныне Бобрик гора, город Донской), Лев Толстой резко оборвал эти отношения. Также поступил он с предводителем тульского дворянства П.Ф. Самариным. Когда он 15 мая 1881 года приехал в Ясную Поляну и стал оправдывать казнь правительством революционеров, Толстой возмущенно крикнул ему: «Так зачем же вы тогда ко мне приехали?»
Правда, и великий мыслитель, и знаток человеческих душ иногда ошибался в первоначальной оценке тульских людей. Летом 1909 года Лев Николаевич записал в дневнике: «Я ходил встречать и встретил Василия Панюшкина. Долго, гуляя, говорил с ним. Прекрасный юноша. В этих, только в этих людях надежда на будущее. Да хоть ничего не выходи из них, хорошо и для них, и для меня, и для всех, что они есть». Не без помощи Толстых прекрасный юноша попал в столицу, поступил в морское училище, получил профессию. Но связал свою жизнь не с той «надеждой на будущее», на которую рассчитывал граф.
Став революционером, он получил высокое назначение в Тульскую губернию: «чрезвычайный военный комиссар по борьбе с контрреволюцией и борьбой за хлеб». И вот здесь-то в полной мере проявился своеобразный талант «прекрасного юноши», который в этой «борьбе» не щадил никого! По губернии ходили слухи: «Прибыл комиссар Панюшкин. Будет хлеб подчистую отбирать, будет мужиков расстреливать». И пошли вагоны с хлебом в Москву и Петроград, оставляя голодать местное население. Так что хорошо с Панюшкиным было далеко не всем.
Общался Толстой и со своими тульскими «братьями» по писательскому цеху. Например, 15 августа 1903 года к нему в Ясную Поляну приехал писатель В.В. Вересаев. А сам Толстой с интересом читал его произведения, особенно ему нравилась повесть Вересаева «Конец Андрея Ивановича».
Очень много для развития и становления музея-усадьбы «Ясная Поляна» сделал праправнук нашего великого земляка, бывший директор музея-усадьбы «Ясная Поляна», ныне советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой. А вот тульские писатели, к сожалению, так и не стали постоянными участниками ни знаменитых «толстовских встреч», ни лауреатами не менее знаменитой яснополянской литературной премии.
Возможно, на этом сказалось насмешливое замечание еще классика советской литературы Александра Фадеева, который на одном из писательских съездов, когда речь зашла о Тульской писательской организации, решил пошутить. «До революции в Туле был всего один писатель, а сейчас местная организация выросла до двадцати членов. Правда, тем одним писателем был Лев Толстой, а нынешних никто не знает».
Наверное, и в этом проявилось некое мистическое «противоборство» гения и не отмеченных особыми талантами литераторов. Ведь, как было еще отмечено поэтом, «лицом к лицу лица не увидать». И, в этом свете, уже как-то по-иному могут быть восприняты и объяснены возмутительные в истории Тулы и его общества некоторые факты непочтения своего гениального земляка.
Ведь, когда весь мир переживал по поводу кончины Льва Толстого, «Тульские губернские ведомости» даже словом не обмолвились о смерти великого писателя!
А когда поступило предложение почтить память скончавшегося, один из депутатов городской думы заявил протест против чествования «антихриста».
И не слишком ли долго туляки «созревали» для того, чтобы поставить в своем городе приличный памятник гению мировой литературы? Ведь только в 1973 году, в годовщину 145-летия писателя, на проспекте Ленина, бывшей Киевской улице, по которой так много ходил и ездил Лев Толстой, ему был открыт памятник.
А памятник работы скульпторов В. Буякина и А. Колчина получился великолепным. Толстой изображен в полный рост, на низком постаменте. В нем чувствуется величие гения мировой литературы, писателя, как бы идущего к людям.
И место вокруг памятника стало знаковым. Сюда приходят просто отдохнуть. Здесь проходят творческие встречи. Здесь наглядно видна та огромная любовь, непреходящая память и благодарность, которые чувствуют к своему гениальному земляку простые туляки.
И это вполне объяснимо: ведь все творчество писателя было проникнуто любовью к людям. Не случайно, когда за два года до смерти Лев Толстой написал обращение к людям-братьям «Благо любви», пронизанное любовью и состраданием к ближнему, он закончил свое духовное завещание словами:
«Я думал, что умираю в тот день, когда писал это. Я не умер, но вера моя в то, что я высказал здесь, остается та же, и я знаю, что не изменится до моей смерти…»
Сергей ОДИНОКОВ
(г. Тула)
 Выпускник Тульского областного колледжа культуры и искусства, а также факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого; артист Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского. Пишет стихотворения и рассказы. Публикуется в журналах, коллективных сборниках, альманахах и газетах.
Выпускник Тульского областного колледжа культуры и искусства, а также факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого; артист Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского. Пишет стихотворения и рассказы. Публикуется в журналах, коллективных сборниках, альманахах и газетах.
ФУНКЦИИ НЕТРАНСЛИТЕРИРОВАННЫХ
ФРАНЦУЗСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ДРАМАТУРГИИ Л. Н. ТОЛСТОГО*
В драматургии Л. Н. Толстого иноязычная лексика — обязательный атрибут речи представителей дворянского сословия. В речи героев автор приводит иностранные слова в виде инографических вкраплений, подчеркивая неосвоенный характер подобной лексики. Чаще всего в пьесах Л.Н. Толстого обнаруживаются иноязычные вкрапления на французском языке. Примеры употребления других языков единичны: lawn-tennis (англ.) в ремарке драмы «И свет во тьме светит» [5, с. 196], shake hands (англ.) в речи Александры Ивановны, героини той же пьесы [Там же, с. 198], Post Scriptum (лат.) в речи шафера, персонажа комедии «Зараженное семейство» [Там же, с. 419] и др.
Как отмечает Е. А. Маймескул, в драматических произведениях Л.Н. Толстого наблюдается 452 случая употребления нетранслитерированных французских элементов (НФЭ), из которых 156 — в комедии «Плоды просвещения», 111 — в драме «Живой труп» и 185 — в драме «И свет во тьме светит» [2, с. 107-114].
Назначение данных элементов различно. Необходимо отметить, что одни и те же НФЭ могут выполнять сразу несколько функций. Помимо эстетической и коммуникативной функций, которые, по словам С.И. Маниной, являются доминирующими функциями в любом художественном тексте [3], а также наличия экспрессии (эмоциональной окрашенности), отличающей любой художественный текст от текста вообще, Е.А. Маймескул выделяет две основные функции использования НФЭ в произведениях Л.Н. Толстого: это изобразительная и выразительная функции, которые выступают «в сложном единстве, с преобладанием одной из них в зависимости от роли, которая отводится НФЭ в каждом случае» [2, с. 187]. Выделенные функции, на наш взгляд, нуждаются в конкретизации применительно к толстовским пьесам.
Изобразительная функция реализуется в следующих разновидностях:
1. Отражение особенностей эпохи. «Золотой век русского дворянства, длившийся с XVIII столетия и до конца наполеоновских войн, совпал с эпохой расцвета Франции, ставшей гегемоном в Европе, а значит, и во всем мире. <...> Итог очевиден: к началу XIX века в домашней библиотеке русского дворянина в среднем более 70 проц. книг современных авторов принадлежали перу французов, тогда как лишь оставшаяся треть приходилась на остальных, вместе взятых: англичан, немцев, итальянцев» [6]. После 1812 г. Франция во многом теряет свое политическое и культурное влияние на мировой арене, уступая лидерство Великобритании. Среди русских дворян возрождается интерес к отечественной культуре и русскому языку. Однако французский язык полностью не утратил своего значения: дворяне по-прежнему использовали его в своей речи, но более редко. Снизилась как частота, так и объем употребляемых французских слов. Данная динамика отражена и в произведениях Толстого: если в романе «Война и мир», в котором подробно описана жизнь светского общества начала XIX в., иноязычные вкрапления на французском языке занимают в общей сложности 34 страницы от полного текста романа [2, с. 29] и часто представлены крупными текстовыми единицами: предложениями, диалогами, а также цельными текстами, написанными по-французски (письма, записки, мемуары, исторические повествования), то в пьесах, события которых приходятся уже на конец XIX в., НФЭ чаще всего встречаются в виде отдельных слов, фраз, реже — предложений и небольших диалогов. Таким образом, объем используемых автором НФЭ полностью соответствует языковой ситуации описываемой им эпохи.
2. Подчеркивание социального статуса героя. Употребление иностранных языков — характерная черта дворянской речи в пьесах Л.Н. Толстого. Французский язык являлся языком светского общения, владение им — признак хорошего тона, образованности, а также принадлежности к высшему обществу. Тот, кто плохо говорил по-французски, не пользовался уважением (являлся человеком не come il faut по замечанию Л.Н. Толстого [4, с. 304]). Крестьяне и слуги не понимали французской речи, поэтому дворяне использовали иностранные языки в том числе для того, чтобы подчеркнуть свой статус и «отгородить» себя от представителей низших сословий. Подобных примеров много в тексте толстовской комедии «Плоды просвещения».
Выразительная функция более разнообразна и реализуется по-раз-
ному в зависимости от контекста употребления НФЭ. Данная функция
выступает в следующих разновидностях:
1. Выражение авторской позиции, своего отношения к герою. В некоторых случаях наблюдается перегруженность реплики героя: фраза, произнесенная на русском языке, тут же дублируется по-французски. Как правило, Толстой перегружает иностранной лексикой речь тех персонажей, к которым не испытывает симпатий. В подобных случаях автор высмеивает чрезмерное увлечение дворян иностранными словами. Данная особенность речи отражена, например, в репликах Марьи Васильевны (неоконченная комедия «Зараженное семейство»):
«Я слышала, что Анатолий Дмитриевич veut faire la proposition à Люба (хочет сделать предложение Любе), хочет Любочке свататься... <...> On dit. Да говорят. <...> J’ai mon opinion, у меня свое мнение» [5, с. 357].
Излишняя увлеченность иноязычной лексикой проявляется также в речи героев драмы «Живой труп». «Характеризуя Анну Дмитриевну,— отмечает К.Н. Ломунов,— Толстой нашел необходимым подчеркнуть, что она “перебивает речь французскими словами”. И действительно, редкая реплика Карениной не содержит французских слов. И Анна Дмитриевна Каренина, и ее давний приятель князь Абрезков принадлежат к тем русским аристократам, которые щеголяли галлинизмами, употребляя их без надобности» [1, с. 333]. Следовательно, можно еще раз подчеркнуть, что Л.Н. Толстой перегружает реплики отдельных своих героев иноязычной лексикой, выражая таким образом негативное отношение к чрезмерному употреблению иностранных слов.
2. Проявление намерений героя. Переход на иностранный язык может быть связан с нежеланием собеседников, чтобы их диалог был понятен представителям иного (низшего) сословия. Так, например, происходит в комедии «Плоды просвещения», когда Бетси во время разговора с княжной специально произносит фразу «Перестань, прислуга» на французском языке, давая понять собеседнице, что не желает беседовать на эту тему при посторонних. Иностранный язык выступает здесь в роли языкового барьера:
«Княжна. Бедный Коко! Он так влюблен.
Бетси. Cessez, les gens» [5, 180].
Переход на французский язык может способствовать эмоциональному контакту персонажей. Например, в явлении 35-м, действии I-м комедии «Плоды просвещения» Петрищев в разговоре с Бетси искус-
но использует языковую игру, построенную на созвучиях. Герой специально использует французский язык, чтобы «вовлечь» собеседницу
в свое настроение, развеселить ее:
«Бетси. ...а скажите, вы вчера были у Мергасовых?
Петрищев. Не столько у mère Gassof, сколько у père Gassof, и даже не père Gassof, а у fils Gassof (игра слов: Не столько у мамаши Гасовой, сколько у папаши Гасова, и даже не папаши Гасова, а у сына Гасова)» [там же, с. 121].
Есть и обратный пример, когда герой намеренно не употребляет в своей речи французские слова. Так, Федор Протасов («Живой труп») во время диалога с Карениным отказывается беседовать на французском языке и отвечает на обращенные к нему французские фразы по-русски:
«Каренин. Je voudrais vous parler sans temoins. (Я хотел бы говорить с тобой без свидетелей.)
Федя. О чем?
Каренин. Je viens de chez vous. Votre femme m'a charge de cette letter et puis... (Я сейчас от вас. Твоя жена поручила мне это письмо и потом...)» [там же, с. 284].
Вполне очевидно, что для Протасова «нежелание говорить по-французски при обращении к нему на этом языке подчеркивает отказ от возвращения к прежней жизни» [2, с. 112].
3. Выявление эмоционального состояния героя, его отношения к происходящему. Герои пьес Л.Н. Толстого по-разному проявляют свои эмоции и выражают отношение к происходящим событиям (в том числе и с помощью НФЭ). Так, Глафира Федоровна (набросок комедии в трех действиях «Нигилист») в финале комедии, когда ее сына, Семена Иваныча, поздравляют с именинами, выражает одобрение словами «Charmant, как мило!» [5, с. 452]. В комедии «Плоды просвещения» Василий Леонидыч, желая похвастаться приобретенной им «густопсовой» собакой, приглашает своих друзей в кучерскую репликой «Я вам покажу, какой кобель там у меня. Epatant! (Поразительный!)» [там же, с. 153]. Толстая барыня, персонаж той же пьесы, когда Л.Ф. Звездинцев объявляет о том, что в качестве медиума на очередном спиритическом сеансе будет использован буфетчик Семен, рассматривая Семена, произносит фразу «Mais il est trés bien (А он очень хорош)» [там же, с. 165]. В данном случае проявляются также и намерения героини: она специально говорит по-французски, чтобы ее поняли только находящиеся в комнате дворяне.
Таким образом, иноязычные вкрапления в произведениях Л.Н. Толстого выполняют многообразные функции. Наличие иностранной лексики придает стилю писателя особые черты, позволяет читателю лучше ощутить описываемую автором эпоху (ее языковую картину), понять отношение Толстого к своим персонажам, а также намерения героев и их взгляд на происходящие события.
Список литературы:
- Ломунов К. Н. Драматургия Льва Толстого // Л.Н. Толстой. Сборник статей / под общ. ред. Д.Д. Благого. М.: Учпедгиз, 1955. С. 302—335.
- Маймескул Е. А. Французский язык в художественной прозе Л. Н. Толстого: дис. ... канд. филол. наук: 10. 02. 05. Киев, 1981. 222 с.
- Манина С. И. Прагматические функции иноязычных вкраплений [Электронный ресурс]. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/pragmaticheskie-funktsii-inoyazychnyh-vkrapleniy (дата обращения: 09. 03. 2016).
- Толстой Л. Н. Детство. Отрочество. Юность / отв. ред. Р. И. Филиппова. Ленинград: Детская лит-ра, 1966. 366 с.
- Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 22-х т. / гл. ред. М. Б. Храпченко. М.: Худож. Лит-ра, 1982. Т. 11. Драматические произведения. 1864-1910 гг. 503 с.
- Чесноков Э. Как французский язык стал языком русской аристократии [Электронный ресурс]. URL: http://russian7.ru/2014/12/kak-francuzskijj-yazyk-stal-yazykom-russ/ (дата обращения: 13. 03. 2016).

Рудольф АРТАМОНОВ
(г. Москва)

ВРАЧИ И ПУШКИН
Пушкин — наше все. Эта сакраментальная фраза означает и то, что все, что связано с именем великого поэта, волнует и вызывает интерес до сих пор.
Нас, медиков, особо интересуют знакомства и отношения Александра Сергеевича с врачами своего времени. Наиболее известны имена Николая Федоровича Арендта и Владимира Ивановича Даля, которые были рядом с поэтом в последние часы его жизни. Его личностью и творчеством интересовались многие его современники, в том числе и врачи, сыгравшие ту или иную роль в его жизни. Уместно вспомнить о них.
МИМОЛЕТНОЕ ЗНАКОМСТВО
Иван Семенович Повало-Швайковский. Полковник Саратовского пехотного полка. Отчаянный храбрец. Участник сражения с Наполеоном и Русско-турецкой войны. Декабрист, страстный поборник освобождения крестьян от крепостного ига... и врачеватель. Неизвестно, когда Иван Семенович увлекся медициной — до или после ареста и ссылки или уже в Сибири, куда прибыл вместе с другими осужденными декабристами. Сохранилось письмо декабриста Басаргина Пушкину, в котором он описывает один из эпизодов врачебной практики Повало-Швейковского: «…Смотритель здешнего училища занемог горячкой, потом жена, сын, тетка, сестра — одним словом весь дом сделался больным, и наш Ив. Сем. всех их поставил на ноги. Он не жалел ни трудов, ни денег, чтобы их спасти. Полтора месяца он не имел ни минуты покоя, целые дни и ночи проводил у них, сам составлял лекарства, сажал в ванну, одним словом, ухаживал за ними как за ближайшими родными, и все из одного желания помочь ближнему».
Знакомство Пушкина с самоотверженным врачом было кратковременным. Всего четыре дня они общались у Михаила Федоровича Орлова, тоже беспримерного храбреца, участника войны с Наполеоном и впоследствии декабриста. Это было в 1821 г. Больше им встретиться не довелось. Когда Пушкин из Михайловской ссылки вернулся в Петербург, Иван Семенович сидел в Свартгольмской крепости, откуда был сослан в Сибирь.
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ЗАСТУПНИК
После напечатания оды «Вольность» над юным поэтом нависла угроза сурового наказания. Император Александр I колебался в выборе места ссылки Пушкина — на Соловки или в Сибирь. На защиту поэта стали его друзья — Чаадаев, Жуковский, Карамзин, многие другие и даже вдовствующая императрица Мария Федоровна. Среди заступников Пушкина был и статс-секретарь по иностранным делам Иван Антонович Каподистрия. Считают, что именно он сыграл решающую роль в замене места ссылки с Соловков и Сибири на юг России, в Бессарабию. Сделал так, что это даже и не ссылка была, а как бы командировка с депешей к генерал-лейтенанту Ивану Никитичу Инзову о назначении оного наместником этого южного края.
Грек, уроженец греческого острова Корфу, Иоаннис Каподистриас в России назывался Иваном Антоновичем Каподистрией. Человек необычной судьбы, медицинское образование он получи в Италии. Работал главным врачом русского военного госпиталя, но недолго. Когда на Ионических островах возникла республика, врач Каподистриас, как и многие врачи современных малых стран, стал политическим деятелем — секретарем законодательного совета республики. Когда республика пала под натиском англичан, Александр I пригласил его служить России, где греческий республиканец сделал успешную дипломатическую карьеру, став статс-секретарем по иностранным делам. В душе Иван Антонович оставался человеком республиканских убеждений. Наверное, поэтому вольнолюбивый русский поэт вызывал у него симпатию. Чем еще можно объяснить живое его участие в судьбе молодого Пушкина? Нам дорого имя грека Каподистрия тем, что он сыграл большую роль в судьбе поэта. Попади Александр Сергеевич в молодые годы в Сибирь или на Соловки, кто знает, как бы сложилась его поэтическая и человеческая судьба.
ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ
Из письма Василия Андреевича Жуковского Пушкину: «Я услышал от твоего брата и от твоей матери, что ты болен: правда ли это? Правда ли, что у тебя в ноге есть что-то похожее на аневризм и что ты уже около десяти лет угощаешь у себя этого постояльца… Причины такой любви к аневризму я не понимаю и никак не могу разделить с тобою… ты должен друзьям твоим вступиться в домашние дела твоего здоровья».
От слов Жуковский переходит к делу. Его племянница была замужем за профессором Дерптского университета Иваном Филипповичем Мойером. Тот готов выполнить необходимую операцию.
Но в ответном письме Жуковскому Пушкин пишет: «Вот тебе человеческий ответ: мой аневризм носил я 10 лет и с Божьей помощью могу проносить еще года три. Следовательно, дело не к спеху. Но Михайловское душно для меня. Если бы царь меня для излечения отпустил за границу, то это было б благодеяние, за которое я бы вечно был ему и друзьям моим благодарен».
Ясно, что Пушкин не хочет оперироваться в России. И ясно также, что он хочет, чтобы царь «для излечения отпустил за границу».
Как и многие русские поэты, Пушкин хотел побывать за границей и так же, как многие русские поэты, никогда там не был. Ему душно не в Михайловском, а в России. Но царь разрешает провести операцию не заграницей, а всего лишь во Пскове.
Узнав о том, что Жуковский послал ему врача и тот готов выполнить операцию, Пушкин пишет профессору Моейру: «Сейчас получено известие, что В.А. Жуковский писал Вам о моем аневризме и просил Вас приехать во Псков для совершения операции. Нет сомнения, что Вы согласитесь. Но умоляю Вас, ради Бога, не приезжайте и не беспокойтесь обо мне. Операция, требуемая аневризмом, слишком маловажна, чтобы отвлекать человека, столь знаменитого, от его занятий и местопребывания. Благодеяние Ваше было бы мучительно для моей совести…»
Никакого «аневризма» у Пушкина не было. К такому выводу пришли в том числе и современные врачи, в частности, доктор медицинских наук Борис Моисеевич Шубин, изучавший медицинские документы поэта. Столь велико было желание Александра Сергеевича вырваться на время из России, что придумал он себе болезнь, рассчитывая, что царь отпустит его «для излечения» за границу.
А Иван Филиппович Моейр в самом деле был знаменитым, как пишет в своем письме Пушкин, врачом своего времени. Достаточно сказать, что его учеником был великий Николай Иванович Пирогов, готовившийся в Дерптском университете к профессорскому званию. «Эта личность замечательная и высокоталантливая. Уже одна наружность его была выдающаяся. Высокий ростом, с крупными чертами лица, умными голубыми глазами, с длинными красивыми пальцами на руках...» Так описывает учителя Пирогов в своих «Записках». Получил медицинское образование профессор Моейр в Италии. Хирургом был во время Отечественной войны 1812 года. Выполнял такие сложные по тем временам, да и сейчас тоже, операции на головном мозге, сосудах.
Видимо, друзья поэта продолжали настаивать на операции. Пушкин снова пишет Жуковскому: «Мне, право, совестно, что жилы мои тебя беспокоят…». Испытывал ли Александр Сергеевич угрызения совести за свой обман, можно только гадать. Впрочем, если бы «аневризм» был, и была бы нужна операция, можно не сомневаться, что профессор Моейр вполне бы с ней справился.
АРЕНДТ И ДАЛЬ — ВРАЧ И ДРУГ
О последних днях жизни умирающего Пушкина написано много. Медики то осуждали Николая Федоровича Арендта за якобы допущенные ошибки в лечении раненого поэта, то оправдывали его действия. В адрес Владимира Ивановича Даля каких-либо обвинений не выдвигалось. Понятно почему: был он в то время не столько врач, сколько писатель. Умирающий поэт, увидев подходящего в его ложу Даля, говорит ему: «Мне приятно вас видеть не только как врача, но и как родного мне человека по нашему общему литературному ремеслу». Да и не принял бы Даль самостоятельного решения о лечении Александра Сергеевича. Он сам пишет: «Вследствие полученных от доктора Арендта наставлений поставили (Пушкину.— Р.А.) мы с доктором Спасским тотчас 25 пиявок и послали за Арендтом...»
Хотелось бы обратить внимание на одно обстоятельство, которое мне кажется знаменательным.
В воспоминаниях Константина Константиновича Данзаса, секунданта Пушкина на дуэли с Дантесом, записанных А. Амосовым, говорится: «В это время приехал Арендт, он также осмотрел рану. Пушкин просил сказать ему откровенно, в каком он находится положении, и прибавил, что какой бы ответ ни был, он его испугать не может, но что ему необходимо знать наверное свое положение, чтобы успеть сделать некоторые распоряжения. «Если так,— ответил ему Арендт,— то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды». Пушкин поблагодарил Арендта за откровенность и просил только не говорить жене».
То же подтверждает и князь Петр Андреевич Вяземский, близкий друг поэта, в письме к великому Князю Михаилу Павловичу: «Когда его (Пушкина — Р.А.) привезли домой, доктор Арендт после первого осмотра раны нашел ее смертельной и объявил об этом Пушкину, который потребовал, чтобы ему сказали правду относительно его состояния».
И еще одни штрих к портрету доктора Арендта. Из уже цитированного письма князя Вяземского: «Ареднт, который видел много смертей на веку своем и на полях сражений, и на болезненных одрах, отходил со слезами от постели его и говорил, что никогда не видел ничего подобного. Такое мужество при таких страданиях! Еще сказал и повторил несколько раз Арендт замечательное и прекрасное утешительное слово об этом несчастном приключении: «Для Пушкина жаль, что не был убит на месте, потому что мучения его невыразимы...».
А вот свидетельство Владимира Ивановича Даля о последних часах жизни поэта: «Пушкин заметил, что я стал бодрее, взял меня за руку и сказал: «Даль, скажи мне правду, скоро я умру?» — «Мы за тебя надеемся еще, право, надеемся!» Он пожал мне руку и сказал: «Ну, спасибо». В другом воспоминании Даль пишет, что после ободряющих слов Пушкин сказал ему: «Ну, спасибо. Однако же, поди, скажи жене, что все, слава Богу, легко, а то ей там, пожалуй, наговорят».
Итак, два разных подхода к тому, говорить ли жестокую правду умирающему больному о приближающейся смерти или до самого конца вселять в него надежду на возможный благоприятный исход. Перед каждым врачом нередко встает такая дилемма.
Чем руководствовался лейб-медик Арендт, много повидавший на полях сражения, не скрывая от Пушкина правду о его состоянии, и о чем думал врач и литератор Даль, до последнего убеждая Пушкина и его жену, что все обойдется?
Полагаю, что Арендт видел, сколь мужественный перед ним человек — Александр Сергеевич Пушкин. Он не боялся правды о своем положении. Она была ему нужна для того, чтобы, зная, что конец неизбежен, попрощаться с женой, детьми и друзьями. И Арендт сказал ему эту правду. Проявил рационализм, столь свойственный национальности, которой принадлежал обрусевший немец Арендт. Николай Федорович поступил как врач.
Владимир Иванович Даль, обрусевший во втором поколении датчанин, слишком любил Пушкина и, говоря слова ободрения, может быть, сам не верил в неизбежность смерти, и не хотел ее для почитаемого им человека и поэта. Литератор Даль говорил как друг.
Современная западноевропейская медицина предпочитает, чтобы отношения врача и больного были партнерскими, чтобы врач не скрывал правду, а говорил умирающему больному и его родственникам о наступающем конце жизни. Считают, что это позволяет обеим сторонам приготовиться к неизбежному, сделать распоряжения о земном и духовном, что родственникам в таком случае легче пережить потерю. Уклонение от правды, обнадеживание может рассматриваться как недостаточная квалификация и врачебная ошибка — врач не распознал симптомы приближающегося летального исхода. Может возникнуть юридическая коллизия.
В отечественной же медицинской практике и этике утвердился другой подход — сохранять надежду больного и его родственников до самого наступления смерти. Это считается более гуманным, сострадательным отношением к больному. Видимо, проявляется патерналистский подход, свойственный российской медицине.
У постели умирающего поэта два этих подхода — патерналистский и партнерский, может быть, впервые проявились столь отчетливо. Трудно отдать предпочтение кому-либо из них. Первый, арендтский, дал время Пушкину сделать распоряжения, обратиться к друзьям с просьбой не оставить его жену и детей без покровительства и заботы, сказать жене: «Отправляйся в деревню, носи по мне траур два года и потом выходи замуж, но только не за шалопая». А второй, «далевский», дал надежду и Александру Сергеевичу, и Наталье Николаевне. «Выходя из кабинета, где лежал умирающий, обрадованная аппетитом мужа и словами ободрения Даля, сказала, обращаясь к окружающим: «Вот вы увидите, что он будет жив».— свидетельствует Константин Данзас.
Что было лучше для умирающего Пушкина и его жены, кто знает.
***
Врачи часто сопутствуют знаменитостям своего времени. Знаменитости часто называют среди своих друзей врачей. Возможно потому, что врачевание сродни искусству, что врачу можно доверить то, что не скажешь даже близким. Врачебное искусство может продлить творческую жизнь знаменитости.
Нет вины Арендта и Даля в том, что они не смогли спасти Пушкина. Они делали все, что было возможно в то время, и словом, и делом. Один — исполняя врачебный долг, другой — долг дружеский. А нам, современным врачам, помня о примере предшественников, следует научиться умело сочетать оба эти подхода.



ПУБЛИЦИСТИКА
СЕРГЕЙ ОВЧИННИКОВ
ЛЮДМИЛА АЛТУНИНА
ГАЛИНА КЛИНКОВА
ЕЛЕНА ВЕЙДЕ-ВЯЛОВА
НИНА ШАЛАГИНА
ГЕННАДИЙ ТРЕТЬЯКОВ
Сергей
ОВЧИННИКОВ
(г. Щекино Тульской обл.)
 Родился возле Ясной Поляны в Тульской обл. в 1963 г., окончил медицинский институт, жил в Калининградской области, Рязани, под Владимиром, в Тольятти, с 1991 г. — на родине. Публикуется в журналах, альманахах, «Литературной газете», во всероссийской антологии современной прозы и поэзии «Наше время». Автор нескольких книг прозы и афоризмов. Лауреат областной пре-мии им. Л.Н. Толстого в категории проза (2011) и премии «Золотое перо Тулы» (2011). С 2001 г. издает и ре-дактирует литературный альманах «Тула».
Родился возле Ясной Поляны в Тульской обл. в 1963 г., окончил медицинский институт, жил в Калининградской области, Рязани, под Владимиром, в Тольятти, с 1991 г. — на родине. Публикуется в журналах, альманахах, «Литературной газете», во всероссийской антологии современной прозы и поэзии «Наше время». Автор нескольких книг прозы и афоризмов. Лауреат областной пре-мии им. Л.Н. Толстого в категории проза (2011) и премии «Золотое перо Тулы» (2011). С 2001 г. издает и ре-дактирует литературный альманах «Тула».
ЖЕМЧУЖНИКОВО
В жарком июне гнездится пик короткого лета срединной России — блестящая от молодости трава, горячий воздух, быстрые грозы, после которых земля парит под высоким солнцем. Борщевик и лопухи на обочинах дорог поднимаются выше человеческого роста, в ушах стоит неумолкаемый птичий гомон. Кажется, еще немного и начнутся субтропики, но нет, день идет на убыль, ночи становятся длиннее, к солнцу и теплу девять месяцев будем летать за тридевять земель.
Ближайшую к моему дому городскую улицу в июне закрывают на ремонт, автомобильный трафик пускают в объезд. В клубах пыли по щебенистым рытвинам и ухабам нашего проселка ползет бесконечная череда машин. В выходной день лучше уехать из пыльного пригорода, но в Туле смог, автомобильная толчея, раскаленный асфальт. Легче всего дышится в одоевской стороне. Чуть отъедешь сюда, многое меняется на глазах — состав почвы, растения, воздух. Здесь нет заводов и больших торговых центров, гудящих автомобилями федеральных дорог, многоэтажных домов, ресторанов, тюрем и лагерей, шахтных терриконов, железнодорожных переездов, суеты, промышленных свалок... Глина под ногами превращается в известняк и песок, вдоль дорог появляются сосны и ели. А еще рядом с Одоевом, Белевом и Козельском рассыпаны самобытные монастыри, без которых настоящая русская жизнь почти невозможна: Жабынь, Анастасов монастырь, Оптина Пустынь, Шамордино, Клыково… Россия сама по себе — громадный северный монастырь, в котором удобно лишь в послушании Богу, ведь существует много стран, где гораздо теплее, уютнее, спокойнее и сытнее. В России хо-
рошо жить, если любишь ее.
Наш городок в советское время был отмечен 201-м километром от Москвы. На строительство шахт, заводов, шахтерских поселков присылали сюда много зеков и ссыльных, их бесплатным трудом возводили советскую промышленность, которую в 90-х при-ватизировали олигархи. В наших краях при СССР выстроили еще тюремные зоны и лагеря, местные жители работают здесь ох-ранниками. Со временем образовалась околотюремная субкультура, зека-вертухайская жизнь, кото-рую сейчас размывает беженцами из когда-то союзных республик. Носители тюремной культуры во множестве переселились на кладбище, не смогли приспособиться к быстро меняющейся «фраерской» жизни. «Понятия» устарели, воры в законе погибли, сломались или начали сотрудничать с государством, превратились в «правильных» бизнесменов. Мир перемешало деньгами, войнами, товарными и транспортными потоками, людей бросает в них будто песчинки в горной реке — одни всплывают наверх, другие оседают на дно… Иногда мне тоже хочется лечь на дно, прижаться к другим песчинкам, чтобы ощутить себя частью глубинного, стержневого народа. Благодаря этому стер-жню только и продержались мы 25 страшных лет.
Когда еду в Одоев, завороженно оглядываюсь на редкой архитектуры храм в селе Жемчужниково. Нижний его придел посвящен Илье Пророку, оттого и село называлось раньше Ильинское-Жемчужниково. Местные помещи-ки Колычев и Лихарев, жившие в начале 19 века, построили храм классической красоты, в виде ро-тонды. Приход в те времена здесь набирался изрядный: 1500 человек из шести деревень вдоль Упы и старой дороги, связывающей Кра-пивну и Одоев, которые раньше бы-ли видными уездными городами. В 1848 году на средства графа Волконского к храму пристроили ка-менную колокольню, а в 1857 го-ду открыли верхний придел, посвященный Великомученице Надеж-де. Попечение над храмом передавали из рук в руки сильные русские люди, традиция эта не угасла — храм в Жемчужникове сейчас восстанавливает потомок зна-менитого в областном центре санитарного врача Белоусова, в честь которого назван парк в Туле. Члены этой семьи служили родине священниками, учеными, купцами, врачами — сильный улей, хорошая порода русских пчел, не растерявших жизненной силы, исторической памяти.
В советское время в Жемчужникове, как водится, работал совхоз «Жемчужина», в храме располагалась совхозная столовая. По-мню, вокруг растекался густой запах борща и компота, у открытых дверей церкви стояли механизаторы и доярки. Стены храма-столовой какой-то местный художник расписал фресками с ук-лоном в «народность» — над вездесущими березками гуси-лебеди несут светловолосого мальчика, вы-ходят из моря тридцать три богатыря в блестящих кольчугах; Илья Муромец сидит на лошади, грозно глядя куда-то из-под боевой рукавицы, огромный серый волк везет маленького царевича на загривке... В чем-то этому хра-му очень повезло. Рядом в селе Павловском церковь удивительной архитектуры, построенная сербом Воейковым, в советское время бы-ла разрушена, гробницы вскрыты и ограблены, кости Воейковых вы-брошены в кусты… А в Жемчужникове — столовая, все же не общественный туалет, не коровник или свинарник. Храм продол-жал служить людям, его ремонтировали, подновляли, да и оратари-плугари не последние люди на земле. Думалось мне, пусть хоть они трапезничают, если нам ума не хватает использовать храм по прямому назначению. Но в кон-це прошлого века совхоз развалился, в храме вконец одичавшие люди начали устраивать питейное заведение: одуревшие от безбожия русские плясали здесь ночами напролет, сделав туалет под церковной лестницей. Но плясали и пили недолго: безвременье закончилось, унеся в могилу не ус-певших протрезветь, понемногу на-чала выстраиваться новая русская жизнь. Оказалось, для пахоты зем-ли сейчас не нужен целый колхоз, с этим справляются три—четыре фермерские семьи, оснащенные со-временной техникой. Остальные се-ляне теперь ездят на работу в город, огородами заняты старики и женщины, у которых малые дети.
Все меняется. Нет смысла, на-верное, заламывать руки и посыпать голову пеплом по умершей русской деревне, этим делу не по-можешь… Только есть ли у нас это дело и какое оно? Для чего живет Россия? Просто растет, а временами усыхает, как зимой тра-ва и деревья, или существует для что-то более важного? Есть ли у нас будущее? Богатеть, растить здоровых детей, думать о вечном — это и есть наше предназначение, а формы жизни могут быть разными? У каждого ответ свой, и экспериментов над страной, на-родом поставили много.
Поосторожнее надо с экспери-ментами! Разрушить легко, по-строить сложно. В соседнем Павловском до революции было цветущее село, громадная помещи-чья усадьба, церковно-приходская школа, конезавод — ничего не осталось. Все «отняли и поделили». Лучше стало? Вырастили нового человека? Нет, душа человеческая плохо поддается переделке. Люди по-прежнему хотят иметь соб-ственность, стараются выделиться и на этом пути мечтают о деньгах, славе, власти, стремятся наверх, ис-подволь толкая этим вперед все об-щество. Неисправим человек, но и вера в Бога неискоренима. Советская борьба с церковью была осо-бенно страшной потому, что не имела смысла в своей безнадежности. Нашлось много русских, ко-торые стреляли в иконы, в Туле одно время иконами даже вымостили мост, чтобы люди попирали святые образа ногами, но все бесполезно — заставить людей забыть Бога не удалось. Комиссары и простодушные злодеи из на-рода зря стреляли в помещика и барина, через поколение в барчуков превратились их собственные внуки. Взять хотя бы Аркадия Гай-дара — внук писателя Егор Тимурович внешне и внутренне превратился в Мальчиша-Плохиша из книжки деда, променял родину на буржуинскую банку варенья и мешок печенья. Того самого печенья, что раздавали затем на укра-инском Майдане. Кроме страха, похоже, не создал коммунизм для народа никакой духовной скрепы, ведь наши лидеры не смогли удер-жать от предательства даже своих детей! Дочь Сталина, сын и внуки Хрущева, потомки Андропова, Гор-бачева, Ельцина — все уехали за границу. Советский режим сразу же рухнул, как только убрали страх и насилие, цементирующие систему. Рай на земле оказался порченым. На этом пути повреди-лись многие, но в целом, как об-щность, русские нашли в себе си-лы подняться после страшного па-дения 90-х.
Мы сберегли свою цивилизацию после чудовищного поражения, выстояли на краю, ведь нам при Ельцине уже грозила судьба древних египтян, вавилонян, ассирийцев, мидийцев, кхмеров, эт-русков, ацтеков и майя... Спасибо той талантливой молодежи, которая в безнадежные 90-е не уехала на запад. Спасибо сельским бабам и мужикам, которые продолжали пахать нашу землю на свой страх и риск, иногда даже себе в ущерб. Спасибо нашим рабочим, врачам, учителям, медсестрам, ко-торые ходили на работу в 90-е почти без зарплаты. Спасибо тем русским писателям, которые двадцать лет выпускали свои книги без гонораров, не скатившись в ернический модернизм, дешевое развлекательство, пошлость, русо-фобию и порнографию. Спасибо нашим спортсменам, которые в жуткие 90-е продолжали защищать российский флаг. Спасибо во-енным, ученым, конструкторам, раз-ведчикам, государственным деятелям, которые не предали родину, не опустили рук, не сбежали за гра-
ницу с деньгами, военными секретами. Спасибо священникам, прихожанам и благодетелям церквей, которые вкладывали силы, вре-мя и деньги не в публичные дома, банки, ночные клубы, сауны, рестораны и водочные магазины, а в храмы и монастыри. Спасибо матерям, которые продолжали ро-жать детей, хотя иногда их кормить было нечем. Спасибо родные, мы помним вас всех! Ваш ти-хий подвиг сопротивления войдет в российскую историю героической страницей, благодаря вам на-ша страна сохранилась и продолжает оставаться одной из самых сильных на планете. Своим присутствием Россия продолжает удер-живать многие народы и страны от падения и гибели — христиан, алавитов, езидов, шиитов Сирии, коптов Египта, персов, сербов, палестинцев... В некотором смысле Рос-сия сохраняет установленный Богом планетарный порядок, без которого человечество давно бы вы-родилось, разделившись на запад-ных господ и рабов третьего мира.
Россия тяжело переболела го-сударственным атеизмом и кровавыми коммунистическими фантазиями. Вымерло много замечтавшихся и тех, для кого страдания прозрения, выздоровления оказались чрезмерными. Русского на-рода сильно убыло на земле, но теперь мы понемногу выбираемся из страшной ямы 90-х. У нас ук-репляется армия, восстанавливаются производства, снова распахана, хоть и не вся, земля, рождается больше детей. Смотришь на их головки в сельском храме, когда малыши стоят в очереди к при-частию, и душа радуется: вот он — твой народ, твои дети. Эти уже не уедут, не бросят Россию, будут сражаться за нее хотя бы потому, что на российской земле стоят до-рогие нам храмы и монастыри. Кто-то же должен их защищать!
Россия — земля веры: православия и традиционного ислама. Ваххабитам и сектантам здесь не место. Россия сохраняет чистоту на-стоящей веры. Западные Содом и Гоморра, протестантизм, саудовс-кий ваххабизм, всегда будут бороться с нами еще и поэтому. Рус-ским надо понять, выбор у нас очень скудный: православие или смерть. Православное самосознание, история, культура и язык — главное, что нас объединяет, экономика вторична. Хорошо, что ста-ло больше женщин и детей в храмах, жаль мужичков маловато. Русский мужчина как озаботился обогачиванием в 90-е годы, так, в большинстве своем, и не может выйти из этого состояния. У многих есть уже богатые дома и роскошные квартиры, деревенские да-чи, по две машины на семью, но для души времени никак не най-дется. Баня, рыбалка, охота, путешествия, друзья, машины, спорт-зал, красивые женщины… Только вот одним телом не выжить. Первичен дух, а не материя, тут Ленин, Маркс и Сталин ошибались, поэтому СССР и распался. Мир жи-вет по духовным законам, без знания которых человек безоружен и беззащитен.
- храму в Жемчужникове в новом веке опять повезло — кроме благотворителя еще и священник выискался: уникальное для округи духовное явление. Он монах, а живущий в миру монах — это редкость. В монашестве есть что-то непостижимое, сокровенное. Когда священник отягощен семьей, обрастает детьми, женой, тещей, квартирой, машиной, дачей — от житейской обремененности он иногда становится духовно одышливым, слишком сытым, благополучным, спокойным. А православие, да и вообще ос-мысленная жизнь, возможны толь-ко в ежедневной борьбе со своей животной природой. Когда эта борьба ведется всерьез — человек уязвлен, весь в невидимых ду-ховных ранах и ушибах, которые чувствуешь. Если этого нет, человек дезертировал с вечной войны, душа его постепенно мертвеет. Монах из Жемчужникова живой, короста благополучия с него раз за разом слетает, душа у него уж больно непричесанная, по-детски искренняя. На житейском уровне эта искренность часто вредит ему.
— Ходят в церковь как в клуб, людей посмотреть и себя показать! — иной раз вскрикивает ба-тюшка прямо среди службы, откликаясь мыслям своим.— Хотят удобного, легкого православия! Раньше было по-другому! Люди многим жертвовали ради возмож-ности прийти в храм! А сейчас многие идут потому, что сюда ве-тер дует! Подул государственный ветер в сторону храма и нанесло много мусора! Повернет ветер в другую сторону и опять начнут рушить церкви!
Смотрю на него и думаю: как бы опять жалобу не накатали! Это-го батюшку-монаха в Гражданскую войну точно бы расстреляли. Странно, почему-то именно Гражданская война для меня до сих пор — оселок и точка отсчета. Не революция, а именно Гра-жданская война. Увидев человека, представляю, что бы он делал то-гда? Великая Отечественная война в 1945-м закончилась, а та, что началась в 1918-м, не окончится еще долго. Красные и белые продолжают сражаться в нашей душе, спор не разрешен! Стоило бывшему прокурору Крыма Ната-лье Поклонской выйти 9 мая в ряды «Бессмертного полка» с ико-ной царя Николая, как на нее тут же набросились современные ко-
миссары. Нет уж прежнего обездо-
ленного пролетариата и темного крестьянства, буржуазность залила всю Россию, нынешние комиссары сами насквозь буржуазны, а кровавый спор в душе продолжается. Что лучше — социализм или капитализм? Интеллигенция в России — жалкая прослойка общества («говно, а не мозг нации», по выражению Ленина) или национальная элита? Религия — «опиум для народа», или необходимая основа народного самосознания? У каждого из нас в этой войне своя сторона, кто-то еще партизанит... Голосуют и сражаются не только мыслями, словами, но и кошельком, ногами, маткой. Вывозят деньги за границу, показывая «этой стране» кукиш в кармане. Много женщин, которые мечтают выйти за иностранца, отказываясь рожать для России. Вроде бы свои, русские интеллигенты, ненавидят Россию за грязь, хамство, неустроенность, всесилие генералов и чиновников, мечтая уехать…
Некоторые потомки аристократов, например, Толстые «Ильичи», Николай Геннадьевич Лермонтов, еще при Сталине, рискуя жизнью, возвратились на родину, а дети пролетариев, чьи предки радовались революции, теперь меч-тают от родины сбежать! Целая страна, Украина, пытается выло-миться из русского мира! Выстрелы, минометные разрывы и кровь на Донбассе — прямое следствие Гражданской войны. Ведь Слобожанщину и Новороссию подчинили Киеву именно тогда. Земли западной Украины, веками при-надлежавшие Польше, Венгрии, присоединили к Украине при Ста-лине. Но при этом и Ленин, и Сталин объявлены врагами украинского народа! Удивительны ис-торические кульбиты, теперь в Ук-раине будто воскресли вековой давности персонажи — зеленые и прочие самостийщики, анархисты, наследники Петлюры и Мах-но… Причудлива человеческая душа. Многие потомки комиссаров начала ХХ века стали западниками, либералами, а некоторые внуки тогдашних либералов — пат-риотами. Но мыслительные стере-отипы у многих остались прежними: дай им в руки оружие — начнут стрелять друг в друга, при всей внешней демократичности.
Увы, никакая идеология не спасает человечество от приступов ненависти и людоедства. Ни коммунистическая идея, ни либеральная. Даже великое христианство в средние века имело следствием инквизицию и жестокие религиозные войны. Нельзя превращать христианство в идеологию, нужно жить сердцем, выращивать в сердце любовь, выпалывая семена ненависти. Даже христианство благотворно лишь в сочетании с добрым сердцем; оно
тут же начинает мертветь, когда используется в качестве детали государственной машины мертворожденными чиновниками. Хо-рошо, что церковь и любовь у нас отделены от государства, иначе именем Христа снова начали бы казнить и запирать в тюрьмы…
Гудит мир дырявой трансформаторной будкой, ветер свищет в ней, выдувая доброту и тепло. В русском мире случился новый, теперь духовный Чернобыль: кук-ловодам удалось стравить русских и украинцев! Как мы допустили это? Где недосмотрели? Иногда хочется, чтобы началось какое-то планетарное бедствие, мо-жет наши народы хотя бы тогда забудут свою распрю и по-братски кинутся друг другу в объятья утешения и помощи?
— Почему мы все так живем? — тонко и пронзительно вскрикивает батюшка-монах посреди службы. Я думаю, мы все виноваты в этом. Я тоже бывал равноду-шен, ленив, надолго запирался в писательской келье, забыв о людях. Не берегся от греха, ударил этим кого-то доверчивого, кто смот-рел на меня как на взрослого, зрелого писателя. Удивительно чистые души есть в народной сердцевине, вот их нельзя предавать гре-хом, как детей, любящих тебя… Бьется крупный овод в оконное стекло церкви в Жемчужникове, за стеклом открывается вид на высокий дальний берег Упы, засечные леса, село Павловское.
— Что случилось с нашим на-родом? — вскрикивает монах.— Почему мусульманские мужики все как один идут по выходным в мечеть, да еще ноги перед ней моют, а наши во время воскресной литургии бегут пиво пить!?..
Нужно собираться домой, литургия закончилась, прихожане сейчас усядутся обедать, батюшка их специально за одним столом собирает, чтобы создать хотя бы маленькую общину. Старается помогать тем, кто болеет, поддер-живает споткнувшихся. Сердце у него доброе, есть в нем любовь к людям — это главное. Обрядовая сторона в православии тоже важна, но если в человеке нет любви — никакие обряды не помогут. Где взять любовь, если нет ее в душе? Можно ли ее вырастить? Это великая тайна и сложное искусство — растить любовь, бороться с ненавистью. Нам нужно допускать наверх только добрых людей, умных и добрых. Отбрасывать по пути наверх тех, кто ради очередной идеи, политического успеха, станет кастрировать и гнобить собственный народ. Как выстроить, сконструировать эти механизмы отбора — вот о чем нужно думать обществу...
…Несется машина к Туле, мель-кает по сторонам голубая от солнца хвоя молодых сосен. Хочется остановиться возле обочины, вый-ти в луга, провести рукой по тугим колосьям вызревающего ячменя. В цветущей траве мотыльки и кузнечики брызнут в разные стороны, запахнет свежескошенным сеном... Но времени мало — с минуту посмотришь на эту летнюю пастораль и мчишься дальше.
Когда-то хотел купить здесь до-мик, но решил, что не надо. Ни-чего душе не надо в такие дни, кроме дороги, леса, реки, сельского храма, мимолетного свидания со священником, которого, иной раз, никогда больше не увидишь и никогда не забудешь. Жизнь ско-ротечна, телу скоро умирать, для души же собственность — тюрьма. Нужна свобода и возможность почаще видеть Россию деревень, поселков и маленьких го-родков. Ах, как хороша наша сельская родина! Сдержанная ти-хая скромница, но не сломалась до конца под целым веком революций, войн, перестроек и переделок. Нашим краям отчасти повезло — нефти тут нет, уголь плохой, рек мало, нечего поворачивать и запруживать. В других провинциях затопленные колокольни жутко торчат из воды, зия-ют адовыми дырами изгаженные человеком нефтяные и газовые поля, дымятся бескрайние свалки. У нас, вместо газа и нефти, всегда было много талантов. В од-ном ХIХ веке и только в литературе: Толстой, Бунин, Тургенев, Розанов, Фет, Лесков… В ХХ веке такого уровня художников слова на Орловской и Тульской земле не появилось. Культуре нужны были проклинаемые в СССР причудливая роскошь дворянских по-местий, материальная избыточ-ность, свобода суждений позд-ней Российской империи. В советское время дворянские поместья были разрушены (спасена лишь Ясная Поляна и, не случайно, именно вокруг нее в ХХ веке всходили ростки задавленной куль-туры, не пролетарской, сепарированной и предвзятой, а общечеловеческой), деревенский народ переселили в города и поселки, на-мерено лишенные храмов и традиций, литературный урожай упал. В послевоенное время спасительно вызрели северные ягоды русской литературы — Астафьев, Распутин, Шукшин, Белов, Абрамов,— и тому были причины: отчего именно в Сибири да на Севере? А тульская, орловская литература осела, рухнула в ХХ веке и нам теперь нужно искать в земле после пожара и корчевания оставшиеся живые корни, сеять чудом уцелевшие семена, рыхлить землю, удобрить собой пожарище…
После революций и перестроек село у нас по-прежнему нищее — только сейчас бедность начала разбавляться деревенскими особняками «новых русских»,— и бедность защитила эти места от окончательного уничтожения луч-ше оружия: в здешних сирых краях мало чужих, все родное и теплое, тут легко верить в Бога и не страшно умирать. После смерти превратишься в травинку, цветок, полевую ромашку, которую сорвет детская рука, чтобы подарить маме. Юная красивая мамочка с наслаждением вдохнет твой цветочный запах, и жизнь будет продолжаться бесконечно.
Людмила
АЛТУНИНА
(г. Тула)
НА КРАЮ СВЕТА*
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ:
ЭТЮДЫ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ, РАЗМЫШЛЕНИЯ

(ИЗ ЦИКЛА «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА — ГОРНЫЙ
АЛТАЙ)
Кош-Агач — районный центр в Республике Алтай, самый удаленный от республиканского центра,— более чем на полтысячи километров,— затерявшийся в долине, словно на гигантской ла-дони среди первозданной красоты гор со снежными вершинами, во-допадами, среди чистейших озер, рек и родников, в преддверии пу-стыни Гоби. Необычное село, сто-ящее на границе четырех держав: России, Китая, Монголии и Казахстана, а потому и населяют его люди разных национальностей, больше — казахи. Испокон века жили и живут здесь и алтайцы, и русские, и представители других национальностей. Дружно жили, как одна семья, во всяком случае, до недавнего времени, однако это тема другого, очень серьезного раз-говора, которую в этом материале я не берусь затрагивать, потому что превалируют эмоции человека, вер-нувшегося на родину предков-ал-тайцев и русских, в ту точку мира, где я появилась на свет и куда меня так тянула душа, предчувст-вуя обрести здесь умиротворение, гармонию и согласие с самой собой и со всем миром, чего так жаждала она… Эти своего рода путевые заметки отличаются от записок беспристрастного путешественника, пусть и очарованного и восхищенного увиденным, тем, что в них взгляд — через призму личного, ностальгического
восприятия.
- меня Кош-Агач — место особое, исключительное, дорогое сердцу. Здесь я родилась, как и мои старшие сестра и два брата. Один из братьев, Юра Егуеков, похоронен в Кош-Агаче. Он умер в четыре года от менингита. На местном кладбище покоится прах и моей бабушки, Анастасии Максимовны Егуековой — матери моего отца, коренного алтайца по национальности, и тети Сони, маминой сестры, русских, из старообрядцев в далеком прошлом, из крепкого рода Леонтьевых. Зато в Кош-Агаче живет семья ее младшего сына, Николая Каспинского. Коля, в середине семидесятых годов прошлого века, вернувшись из армии, женился на кош-агачинской красавице — ка-зашке Наде и остался здесь. Шоферил на Чуйском тракте, строил дорогу на Джазатор (Беляши) — высокогорное, самое удаленное в Горном Алтае село, расположенное в долине одноименной реки Джазатор, окруженной отрогами Южно-Чуйского хребта. Главная вершина его — пик Иикту возвышается почти на четыре тысячи километров. К югу, за горными хребтами, в кольце гор лежит знаменитое плато Укок — реликтовый природный парк, священное для аборигенов-алтайцев место, средоточие древнейших курганных захоронений разных периодов — зона Тишины, где даже кричать нельзя: считается святотатством и осквернением духов. Здесь и была обнаружена археологами мумия алтайской принцессы, которая хранится ныне в саркофаге, в Горно-Алтайском на-циональном музее им. Анохина. Специалисты пытаются разгадать хранимую ею многовековую тайну, зашифрованную в рисунках и письменах на ее теле.
Коля с Надей вырастили троих детей, сейчас помогают воспитывать внуков. Старший его брат, Иван Каспинский, тоже живет неподалеку от Кош-Агача — в высокогорном селе Чибит.
- смутно помню свои младенческие годы в Кош-Агаче. Ме-ня увезли отсюда в двухлетнем возрасте, брату Володе было пять лет. Уехали оттуда в предгорную Майму по болезни мамы, ей был противопоказан высокогорный кли-мат. К машине ее, тогда еще молодую, вели под руки, настолько подкосила ее болезнь. Отец мой, Дмитрий Алексеевич Егуеков, в Кош-Агач был направлен по партийной линии начальником сельхозуправления в 1947 году, а уе-хала наша семья оттуда в 1955 году. Но всю жизнь мои родители и старшая сестра Валентина часто и с особой теплотой вспоминали Кош-Агач. И по их воспоминаниям и у меня сложилось особое отношение к тем местам, дорогим мне еще и тем, что они столь тесно связаны с моими родителями, с историей нашей семьи. Как заядлый охотник и рыбак, отец сожалел о превосходной охоте и рыбалке. В Кош-Агаче для того — все условия: реки, бесчисленные озера и до сих пор изобилуют рыбой,— благородный хариус здесь — обычная рыба, а османы вообще кишмя кишат, хоть руками лови. В болотах полно дичи — утки, чирки. Бывало, как рассказывал папа, за час — другой недалеко от села целый мешок уток и чирков настреляет. В горах полно всякого зверья, на которого охотились. Вяленое маралье мясо, дикая козлятина, как и домашняя баранина, не сходили со стола. Кстати, самая вкусная и нежная в Горном Алтае кош-агачинская ба-ранина и по сей день — основная пища в меню местных жителей, отличающихся особым гостеприимством. Томленый чай с молоком, тушеная баранина, баурсаки (мучные шарики, поджаренные в масле) — всегда на столе, потому что здесь принято ходить в гости друг к другу — соседям, односельчанам, родственникам без пред-варительных звонков и предупреждений — в любое время. И всегда для каждого открыты двери дома и накрыт стол. Так и в семье Каспинских: с порога любого гостя сразу же за стол приглашают, и чаепитие с дымящейся с жару ароматной бараниной длится подолгу за неспешными разговорами о житье-бытье, о родных и близких, о повседневных хозяйственных делах. И нет ни у кого ни от кого никаких секретов. И каждый знает все не только о тебе самом, но и твоих родных и о предках твоих, и принимает доброжелательное ненавязчивое участие в твоей судьбе и желает тебе добра.
- обычай, человеческий, чего так не хватает нынешнему городскому жителю, лич-но мне, например. Здесь, как сложилось у меня впечатление, человек не чувствует себя одиноким, если даже живет один. Ведь одиночество в толпе людей, одиночество людей в больших городах, где никто никому не нужен — наша общая беда. И пусть разговоры гостей зачастую переходили с русского на казахский, мне вовсе необязательно было понимать язык, важна была сама атмосфера, спокойная, душевная. Я сидела за этим общим столом, молча пила чай из пиалы, а в голове крутилась мысль о том, что люди должны быть людьми каждый день, каждый миг своей жизни и щедро дарить тепло другим, распространять его вокруг себя, дабы согреть всякого, попавшего в ауру твоего света. От такого радушного, искреннего и бесхитростного общения и я всего лишь за несколько деньков, проведенных в семье Каспинских, всей ду-шой, всем своим существом отдохнула, оттаяла от городской суеты и обособленности и воспрянула, будто окунулась в первозданную какую-то купель человеческих взаимоотношений, накупалась, освежилась, напилась живительной для души влаги, надышалась тем живительным воздухом, который дает силы жить, вдохнула чистого воздуха в прямом и переносном смысле слова: на-полнила свой воздушный пузырь, чтобы и дальше держаться наплаву в городской суете большого ев-ропейского города.
…Говорят, в переводе с тюркского языка Кош-Агач означает од-но дерево. Ведь эти места — преддверие пустыни Гоби. В те го-ды, когда там жили мои родители, здесь действительно было только одно дерево — тополь возле боль-ницы. Он и сейчас там растет. В Кош-Агаче действительно растительности маловато: нет привычных в горах Алтая хвойных и лиственных деревьев, хотя предание гласит, что и здесь когда-то были леса. Но сейчас превалируют колючка каргана, которую умудряются охотно поедать овцы и даже коровы; чий — узколистное, жесткое растение, произрастающее кучками. Правда, в последние годы у добротных кирпичных и деревянных домов все больше появляется зелени: кустарники, деревца и даже цветы. Как-то у Каспинских возле дома сама собой выросла крапива. Глаз радуется: какая-никакая, а живая зелень. Одно время Надя в парниках зеленку выращивала, но больно хлопотное это дело, с возрастом забросила его.
БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ КОШ-АГАЧА
Кош-Агач — дивное место, будто другая планета, другой мир. Природа, люди, традиции — для меня на каждом шагу открывается здесь что-то необыкновенное, непривычное или уже утерянное горожанами. Я не уставала восхищаться и щелкать затвором фо-тоаппарата, впитывая обонянием, осязанием, глазами то, что встречалось на моем пути, чтобы все это запечатлеть, унести в своем сердце, создав так для себя новые островки памяти, те, что греют душу в трудные минуты в течение всей жизни. И необыкновенное чувство восторга, удивления и какой-то даже гордости за столь необыкновенную землю наполня-ло меня от осознания того, что именно здесь, на этой сказочной земле, на самом краю света, как мне представлялось, я появилась на свет. Здесь все мне дорого. И все — открытие.
…Белая земля — солончаки под ногами, и на этой земле, в падине, оставшейся, видимо, от весеннего паводка — белый череп лошади. Омываемый дождями, обдуваемый ветрами, нещадно палимый ослепительно ярким здесь солнцем, засыпаемый снегами и сковываемый зимними сту-жами, он стал такой же белый, как земля. Что интересно, Кош-Агач — зона вечной мерзлоты, приравненная к районам Крайнего Севера,— не случайно до недавнего времени здесь строили в ос-новном облегченные (без углуб-ленного фундамента) дома из са-мана,— и одновременно это — самое солнечное место в Сибири. Здесь больше всего в году бывает солнечных дней и солнце нео-быкновенно, ослепительно яркое, палящее в жару. Но едва оно уйдет за отроги гор, как становится холодно, хоть шубу надевай, а в августе-сентябре нередко уже при-летает снег. На вершинах гор он вообще вечный, никогда не тающий. И все вместе — белая земля, белый череп, а вокруг темно-се-рые горы и остроконечные скалы с белоснежными вершинами, свер-кающими на солнце,— создает ка-кую-то нереальную, былинную кар-тину. Как он, этот череп, сюда попал? Кто его выбросил?! Для местных старожилов оно привычно: лошади здесь — вовсе не экзотика. Лошади есть у многих. В горах пасутся не только стада овец, коз, коров, даже сарлыков и яков, но и табуны лошадей. Кстати, и караваны верблюдов проходят горами как бы сами по себе. Собственными глазами все это ви-дела. Мясо съели, кость выбросили и, проходя мимо, никто на этот череп даже внимания не обращает, будто и вовсе его не замечают. Никто, кроме меня. Мне же, глядя на него, чудится иная картина: то из пушкинской «Песни о вещем Олеге», когда волхвы предрекли:
«…Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смирный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю.
И холод, и сеча ему ничего…
Но примешь ты смерть от коня
своего…
…Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь и старые гости,
И видят — на холме,
у брега Днепра,
Лежат благородные кости;
Их моют дожди, засыпает
их пыль,
И ветер волнует над ними
ковыль.
Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: «Спи, друг одинокой!
Твой старый хозяин тебя пережил:
На тризне, уже недалекой,
Не ты под секирой ковыль
обагришь
И жаркою кровью мой прах
напоишь!
Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!»
Из мертвой главы гробовая змия
Шипя, между тем выползала;
Как черная лента, вкруг ног
обвилась,
И вскрикнул внезапно ужаленный
князь…»
То словно слышалось мне эхо былых сражений древних воинов Джунгарского ханства, неистово, с гиканьем мчащихся на горячих лихих конях. Сколько тайн хранит эта древняя-древняя земля Кош-Агача, граничащая сразу с тремя государствами, издревле отличавшихся своей воинственностью.
…Ступаю по белой кош-ага-чинской земле, а на память приходят слова, услышанные мною ког-да-то в детстве от моего деда по ма-тери, Григория Яковлевича Леонть-ева, папы старого, как называли мы деда, чей род уходит древними корнями в старообрядчество. Человек набожный, глубоко верующий, он читал на старославянском языке таинственную старинную для нас, детей, книгу, толстую, тяжелую, в серебряном резном окладе, закрывающуюся крохотным ключиком на крохотный замочек. Написана она была непонятными нам словами и старинными буквами. Заглавные буквы в начале каждой главы были красными, с вензелями, будто выведенными художником от руки. Нам эту книгу, которую дед называл таинственным для нас словом «Библия», вообще брать не разрешалось. Может, это и добавляло ей в нашем восприятии пугающей загадочности. К тому же дед читал ее вслух на непонятном нам языке. А почитав Библию, по-молившись и перекрестившись, обертывал ее в старинное льняное полотенце, сотканное, как говорили в семье, еще нашей прабабушкой из выращенного ею же и отбеленного на морозе, на берегу Катуни, льна и ею же вышитое крестиком красными нитками. Дед клал Библию высоко на божницу — треугольную полочку в переднем углу горницы. Клал осторожно, бережно, словно драгоценный хрупкий сосуд, который может упасть от неосторожного прикосновения и разбиться, рядом с потемневшей иконой Иисуса Христа, строго и вопрошающе глядя-щего на нас сверху. Мы, дети, как-то побаивались этого внимательного строгого взгляда Боженьки и не-вольно притихали под ним.
Дед кое-что толковал о «Божественном», как он говорил, и нам, ребятишкам, но это не совсем нам было понятно и больше напоминало таинственную сказку с трагическим концом. Теперь-то я по-нимаю, что дедушка Григорий го-ворил иносказательно, библейс-кими притчами, не доходившими да нашего детского сознания. Он, помнится, сказывал нам и про бе-лую землю: «В ту пору, до людского грехопадения, земля-то была белая, как есть вся белая, ровно снег. И люди были чисты, яко первый снег, греха не ведали. А как стали грешить да Бога не почитать, да беззаконие творить, и брат поднял руку на брата, Каин убил Авеля, то от таких бед, от сраму людского земля и почернела. Но Бог-то — не мякишка, Он все видит, да пока терпит, долго терпит — до поры, до времени. А опосля начнется очищение земли от скверны. Сперва она три года огнем будет гореть, и воды на зе-мле не будет. Люди, как стада баранов, будут брести в поисках ее. Увидят — вдали што-то блестит, подумают, што это река али озеро какое,— кинутся туды, а там — груды золота, но оно никому не будет надобно. Род-то люд-ской больно охоч до золота — все одна нажива на уме, про душу-то совсем забыли. Вот Господь и по-шлет ему вожделенное, да токма людям уже не до золота, када зе-мля-то под ногами гореть зачнет. А опосля ее будет три года водой мыть — кругом вода будет, как при Ное. Тада земля отдохнет и снова станет белой, и люди будут чисты и светлы душою-то, што тебе ангелы пресветлые. Но я-то ужо до того времени не доживу, и вы не доживете, не скоро это ищо будет»,— заканчивал дед. А мы сидели притихшие, присмиревшие от такого рассказа, от такого жуткого пророчества. Одно утешало, что это случится, как уверял папа старый, еще очень и очень не ско-ро и ни мы, ни наши родные, дорогие нам люди, не увидят этого.
…Белая земля Кош-Агача… Бе-
режно ступаю по ней и знаю, что это всего лишь солончаки — выступившая и высохшая на солн-цепеке соль, но почему-то так хочется думать, что это как раз и по-является, проступает та, белая зе-мля, о которой вещал нам наш папа старый, и которая появляется там, где люди чисты и светлы душой, творят добро, а не зло…
ПОДМЕТАВШАЯ РЕЧКУ
ЧАГАНКУ
Мы с Сергеем А., старостой Кош-Агачинской Петропавловской церкви, уроженцем здешней же зе-мли, моряком в прошлом, выст-роившим и свой дом в этом селе в виде огромного корабля, вышли из храма после утренней Божественной литургии и моей встречи с прихожанами, на которой при-сутствовал и он. На этой встрече, проходившей под открытым небом, на территории нового заложенного храма я рассказывала прихожанам об организованном АНО «Семья России», по патриаршему благословению, право-славном Молитвенном Походе по пятнадцати российским городам, связанным с Августейшей Семьей, в котором мне посчастливилось побывать нынче, в год 400-ле-тия Дома Романовых и Российской государственности, а потому проходившим под эгидой «Царская Се-
мья — семья России».
Сергей стал показывать мест-
ные достопримечательности, связанные с приходом: возводящийся народными силами новый храм, точь-в-точь, как прежний, сооруженный в позапрошлом ве-ке и уничтоженный советской властью в тридцатые годы прошлого столетия,— хорошо, хоть фото ранешнего храма сохранилось, по нему и сооружается новый храм. Осмотрели и строящийся большой деревянный двух-этажный дом для настоятеля храма отца Павла, приезд которого на пастырское служение в этом приходе ожидался как только дом построится и большой многодетной семье священника будет где жить. Побывали и в крестовом деревянном доме для регента, уже отремонтированном, готовом принять своего хозяина. Вот только дело встало за регентом — нет пока такого.
Сергей водил меня по этим стройкам, обо всем подробно рас-сказывал. А потом мы вышли на берег реки Чуи, отсюда открывается великолепный вид на горы и дальние белоснежные хребты, от-куда ветер приносит прохладную свежесть. Возвышается дамба, сдер-живающая реку от затопления прибрежной части села в ее разлив. Пойма реки широкая, красивая, покрытая ярко-зеленой невысокой растительностью, которую щип-лют пасущиеся здесь коровы, лошади и овцы. Двое пацанов стре-мглав несутся по прибрежной гальке к реке. Женщины, совсем молоденькая и зрелая, видимо, мать с дочерью, несут в тазах белье поласкать в реке — во всей этой картине было что-то первозданное, щемяще родное, знакомое.
- прошли еще немного по высоко отсыпанной гравием дороге, до того места, где небольшая река Чаганка впадает в Чую. Чаганка в эту пору, в конце августа, как и все реки, притихла, обмелела, но вода в ней прозрачная. По ее дну вьются длинные зелено-бурые космы водорослей. «Заросла речка,— сказала я,— тиной затягивается».— «Да,— со-гласился мой спутник,— а рань-ше здесь, на берегу, жила бабушка Феня, которая метлой подметала Чаганку. И речка всегда была чистая, без ила и тины. Теплая она, ребятишки любят в ней купаться, но сейчас заросла».— «Речку под-метала метлой?!» — удивленно переспросила я, не веря своим ушам.— «Да, правда, правда — мела метлой каждый день,— добродушно подтвердил Сергей.— Она, бабушка-то Феня, жила вон в том домике, добрая такая была»,— он указал на ветхие старые строения, ютившиеся чуть поодаль. «Умерла или уехала куда?» — поинтересовалась я.— «Умерла несколько лет назад, а уехать… никуда бы она отсюда сроду не уехала, хоть хоромы ей предлагай. С этими местами она срослась, все ей тут родное было, потому, наверно, и реку мела, как в доме полы или землю в своей ограде».
Да, на самом деле, есть такие люди, счастливые люди, которые весь мир, а в особенности окружающее их пространство по-доб-рому так, а не потребительски и захватнически считают своим до-мом и украшают его, как собст-венное жилище, кто как может. В Майме я знаю Ирину, женщину в расцвете лет, которой с семьей много лет пришлось жить по квар-тирам, пока они с мужем свой дом не построили. И где бы они ни поселились как квартиранты, сни-мая частные дома, чтобы жить на земле, всюду она тут же высаживала цветы и всю усадьбу превращала в цветник. «Зачем тебе это надо? — говорили ей,— не твой ведь дом, временно живешь тут».— «А я люблю цветы, без них не могу»,— отвечает она просто.
Видно, верно считается, что на свете живут четыре типа людей: созидатели, разрушители, по-требители и созерцатели. Кабы пер-вых — созидателей — было больше, чем иных, а их, к сожалению, гораздо меньше, насколько богаче, прекраснее была бы наша пла-нета! Воистину она была бы раем земным, каковым, наверное, ее Господь и замышлял первоначально для людей, даруя такое дивное разнообразие цветов и кра-сок в природе, такое изумительное изобилие во флоре и фауне. И как говорит апостол Павел, именно через природу, через ее красоту земную Господь являет Себя людям.
Вот и бабушка Феня обихаживала вокруг себя все: и землю, и реку, потому что ощущала себя неразделимой частицей этого ми-ра. Она жила в нем, как домовитая, заботливая хозяйка. Созидала не столько для себя, сколько для других: чтобы дети в чистой реке купались, да битым стеклом не поранились. Она, как сказал мой спутник, каждое битое стеклышко собственной рукой подбирала, и на земле валяющееся и на речном дне.
Над вершинами гор поднялось солнце, ласково, а не паляще, пригревая августовскую землю. Мы с Сергеем проходим мимо тех старых домиков, в одном из которых жила баба Феня,— таких домов в быстро строящемся Кош-Агаче почти не осталось. На их месте выросли добротные особняки,— на сваленных бревнышках приметили сидящую и греющуюся на солнышке старушку. «Здравствуйте! — издали приветствует ее Сергей, слегка поклонив-шись,— как поживаете?» Старушка прикладывает козырьком руку ко лбу и с любопытством вглядывается в нас: «А вы кто будете-то? Што-то не признаю…» — «Сергей я — храмовый староста».— «А-а! Сережа, здрастуй, милай, здрастуй, прости старую, глаза совсем худые стали — не признала. А куды идешь-то?» — «Да вот из церкви идем, со службы, заодно и гуляем по Кош-Агачу».— «А-а, оно так-то, а я вот слаба ногами, болят, до церкови дойтить не могу, а хотелося бы…» — «Ну вы подлечивайтесь и приходите к нам». Бабушка, в знак согласия, мол, верно говоришь, кивает головой, повязанной цветастым платком, и что-то еще хочет сказать, но видя, что я навела на нее объектив фотоаппарата, отворачивается, встает и, ковыляя, мед-ленно идет к своему старенькому домику. Мы видим только ее согбенную спину в теплом стеганном сером жилете. Попутно она с трудом наклоняется, держась одной рукой за спину, поднимает и отбрасывает в сторону от дорожки то камешек, то щепку. Видно, и эта старушка из тех, кто, как и баба Феня, очищает вокруг себя пространство, насколько хватает сил и рук. С теплотой и любовью смотрю вслед этой незнакомой старушке, такой почему-то мне вдруг ставшей родной и понятной. Вот и моя мама такая же была: всегда с дороги в сторону откинет валяющуюся веточку ли, железяку какую или стекляшку, чтобы кто-нибудь невзначай не поранился. Сердце таких людей бесконечно емкое и щедрое. Оно вмещает в себя всех и все: людей, животных, природу — реки, дерева, землю; чужие радость и боль — весь мир и все добрые чувства, всех любит, всех прощает и всем готово помочь.
В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ
«…В горах мое сердце, доныне я там…»
Роберт Бернс
Будучи в Кош-Агаче, я вдруг неожиданно для себя поняла, почему так безумно люблю горы. Едва увижу первые скалы у Долины Свободы, подъезжая из Бар-наула к Горному Алтаю, все во мне так и встрепенется; на месте усидеть не могу, как полковая лошадь при звуке трубы от нетерпения перебираю ногами. Так бы и выпрыгнула! Э-эх! Подняться бы на горку, подставить бы лицо тугому свежему ветерку, воль-но гуляющему по каменистым вер-шинам, вдохнуть бы этот чудесный воздух, пьянящий, настоянный на разогретом жарким летним солнцем разнотравье с горьковатыми нотками горной полынки, от которого слегка закружится голова; коснуться бы щекой, губами теплой от солнца скалы, лиз-нуть бы ее языком, с восторгом чувствуя ее сухую, горячую шероховатость, особый привкус древнего лишайника, цепляющегося за мелкие трещины в камнях, и всем своим существом, каждой клеточкой тела ощутить ни с чем не сравнимый запах свободы, вет-ра и солнца — именно так в моем восприятии пахнут горы и скалы. Они исцеляют своим собранным за день солнечным теплом, своей могучей силой, своей мощной энергетикой. На себе это испытала и вам советую: прижмитесь всем телом на вечернем заходящем солнышке к теплым скалам или лучше ложитесь на них, расслабившись, и вы почувствуете, как в вас вливается некая сила, питая и исцеляя энергией и теплом все ваши суставчики, мышцы и косточки, облагораживая душу, задавая нужный тонус и ритм сердцу.
…И вот я в Кош-Агаче встала на том самом месте, где когда-то стоял наш домик, и где я родилась,— он был цел до двухтысячных годов. Сейчас на месте нашего дома выстроено новое огромное здание,— передо мной открылся такой дивный вид на горы! Тот самый, неизменный за прошедшие годы вид, который когда-то открылся впервые моему детскому взору и на всю жизнь за-
печатлелся в моем сознании и в моей памяти нетленной, согревающей неиссякаемым теплом душу картиной, и навсегда заставил мое сердце полюбить горы и трепетать при их виде.
Загляну чуть в прошлое. В 1993 году мы приехали в Кош-Агач целым гужом — двенадцать человек: я с тремя своими детьми от восьми до шестнадцати лет; старшая сестра Валентина из Бар-наула с сыном, снохой и внучкой; старший брат Володя из Москвы с женой и двумя дочерьми-подростками. Все мы, сестра, брат и я, родившиеся в Кош-Агаче, были здесь впервые с того времени, как в середине пятидесятых годов прошлого столетия уехали отсюда. Мы-то с братом были совсем маленькими, почти ничего не помнили из того периода, а Валя была уже взрослой девушкой и все знала и помнила о нашей жизни в этих местах. Вот и повела она нас по Кош-Агачу, все показывая, рассказывая; где, в каком здании работал наш отец: где, в аптеке, недолго работала мама,— здание старой аптеки, как и здание быв-шего райкома партии, связанное с отцом, до сих пор сохранились; — где жила наша тетя Дуся, младшая сестра отца, и где она любила ловить под мостом османов, а потом вкусно их готовить — томить, а затем зажаривать — так,
- хрустели и их можно было есть вместе с размягчившимися и поджарившимися косточками. При-вела она нас и к нашему бывшему дому, тому самому, где мы с братом появились на свет. Дом в то время был цел и пустовал. Казахская семья, как и многие другие семьи казахов, уехала в девяностые годы в Казахстан, правда, потом многие вернулись назад, но это уже иная тема разговора. А тогда мы присели на ступеньки нашего пустующего дома, перед нами открылся великолепный вид на горы. Любуемся ими, красиво вырисовывающимися на закате солнца.
Валя рассказывала, как я появилась на свет: «Я работала тогда в ЦСУ, отец возглавлял райсельхозуправление, пришли с ним на обед домой, а у мамы как раз схватки начались. Она свои длинные во-лосы распустила — так, считалось в народе, женщине легче ро-дить, оперлась на огромный бордовый сундук из дерева, подарен-ный ей в юности родителями, с приданным, стонет, губы от боли кусает, но старается не кричать, чтобы Вовочку не пугать. Он, трех-летний, тут же крутится: «У мамы вава,— говорит». А мама кивает нам на него: «Уведите ребенка, чтобы не видел, врача позовите. Мне уж до больницы не дойти». Отец побежал за акушеркой в боль-ницу, тогда же телефонов не было, тем более сотовых, как нынче. Я маме помогаю, чем могу, Вовочку отвлекаю, за бабушкой сбегала. Анастасия Максимовна, отцова мать, жила рядом с нами, у дочери Дуси. Бабушка подошла к маме и тут же забегала, засуетилась: давай скорее печку растапливать на улице, воду в казане греть — «Ребенок,— говорит,— на подходе». Мне велела чистые полотенца и простыни доставать из сундука. И тут слышим мама зовет бабушку: «Мамаша, мамаша! Идите скорее ко мне!» Едва бабушка-то к ней подбежала, ты прямо на руки ей и упала. Тут отец с врачом подоспели, а бабушка уж пуповину перерезала раскаленными на огне ножницами, мы уж тебя в тазу, в теплой водичке окупываем. Вот такая ты торопыха — с приключениями».— «Наверное, поэтому и живу все время с какими-то приключениями, все что-то со мной происходит,— с улыбкой от-вечаю ей.— Не случайно в университете меня подруги в шутку называли Людой — Ни дня без приключений. Слава Богу, что при-ключения-то — все больше добрые, хорошие, забавные, смешные даже. А еще, помню, как батюшка крестил меня в Майме; окуная в чан с водой, с размаху стукнул головой в дно чана — не рассчитал, я уж большая была — лет пять — шесть. Помню, как он меня в макушку поцеловал, погладил по голове и сказал: «Ничего, зато всю жизнь с приключениями будешь». Так оно и вышло.
Дом тогда наш, кош-агачинс-кий, продавался недорого. Такую сумму, все сбросившись, мы могли бы собрать и прямо в тот же приезд и купить его. Я предложила: «Давайте купим этот дом. Это ж так здорово иметь на земле дом, где ты появился на свет», но родные меня не поддержали, мол, за домом следить нужно, а в такую даль, на край света, не наездишься, тем более с малыми детьми. А в ту пору ведь не как сейчас,— на такси или маршрутке за четыре — пять часов доехать можно,— тогда на ПАЗике по летней жаре или в зимнюю стужу тряслись, мяг-ко говоря, не по самой лучшей дороге — по горным серпантинам — весь день, часов одиннадцать, зачастую с промежуточным ночлегом в доме-заежке в Онгудае или на Ине. Да и Чуйский тракт был тогда не таким широким, гладким и ровным, с разметкой, как сейчас. Узкая шоссейная дорога шла высоко по горам — опасные, крутые серпантины, перевалы; по сторонам — отвесные скалы и головокружительные обрывы над Катунью. Зимой не сразу и доберешься. Не дай Бог, снег, туман или метель — встанешь надолго или, чего доброго, в Катунь с крутизны сорвешься. Короче, не купили мы наш дом, сейчас его и в помине нет, но в моей-то памяти он остался.
…Стояла я на том самом месте, где он был когда-то, смотрела на открывающуюся панораму — непрерывная цепь причудливых гор, скрывающихся в медленно ползущем белесом тумане, припорошенных на вершинах первым выпавшим в горах снежком, и вдруг поняла, почему мне так дороги горы, отчего я их так лю-блю. Первое открывшееся передо мной пространство, когда меня, грудного ребенка, вынесли на ру-ках на улицу, были вот эти, не изменившиеся с той поры горы, видимо, сильно поразившие мое воображение своим марсианским видом. А ведь говорят же, что у ребенка ярче всего запечатлеваются в подсознании самые первые впечатления, особенно, если они яркие и необычные. Тогда, ви-димо, в первый год моей жизни на этой земле, и зародилась во мне столь сильная любовь к горам и скалам, которую не изгладили да-же долгие годы моей жизни в Среднерусской полосе. Горы, бур-ные реки — вся природа Горного Алтая плюс смесь во мне кровей, алтайской и русской, наложили отпечаток и на мой характер, покладистым который уж никак не назовешь, скорее взрывной, импульсивный, бурный; вспыльчивый, но отходчивый и не злопамятный. Поистине, мы все — из детства родом. Его, родимое, проносим через всю нашу жизнь, какой бы она ни была.
…А потом мы карабкались на вездеходе еще выше и выше в горы, в самое поднебесье, в Джумалу с ее многочисленными целебными источниками, находящу-юся рядом с реликтовым плато Укок — священное для алтайцев место — Зона Тишины, где и была найдена знаменитая алтайская принцесса, хранящаяся ныне в национальном музее г. Горно-Алтайска. Но это уже другое повествование…
Галина
КЛИНКОВА
(Волгоградская область)
 Родилась 15.03.1949 г. Работает учителем рус-ского языка и литерату-ры в школе. После окончания педагогического ин-ститута трудовой путь начинала ли-тературным сотрудником в районной газете. До сего дня продолжает держать с ней тесную связь. Очень любит поэзию, хотя стихи сама не пишет. В публицистических материалах делится с читателями своими впечатлениями о том, что стало дорогим, затронуло душу… Печатается в межобластных литературно-музыкальных альманахах.
Родилась 15.03.1949 г. Работает учителем рус-ского языка и литерату-ры в школе. После окончания педагогического ин-ститута трудовой путь начинала ли-тературным сотрудником в районной газете. До сего дня продолжает держать с ней тесную связь. Очень любит поэзию, хотя стихи сама не пишет. В публицистических материалах делится с читателями своими впечатлениями о том, что стало дорогим, затронуло душу… Печатается в межобластных литературно-музыкальных альманахах.
И ПАМЯТЬ,
КАК СТРОКА…
В моем семейном альбоме есть укромный уголок, где живут фотографии людей, с которыми не связана кровно... Но они дороги не менее: нас объединила газета «Звезда». Есть веселые, забавные, запечатлевшие не трудовые будни, а яркие моменты отдыха... Вот на этой — в весенний праздничный майский день почти весь редакционный коллектив сфо-тографировался у здания своей альма-матер. Я — пятая справа. Рядом (слева) стоит Яков Николаевич Варакин — редактор.
...Шаловливый свежий ветерок уж очень силен. Упрямо под-нимает волосы причесок и края воротника моего нарядного парчового платья, которые я все пытаюсь придержать... Вдруг раздается возглас фотографа: «Стоп, кадр!» — резко опускаю руки. Так и осталась изображенной в облике не комильфо.
Когда соприкасаюсь взглядом с этим снимком, ощущаю в сердце и нежную теплинку, и как оно сжи-мается в ностальгии...
ТО БЫЛО ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ...
Окончив в 1973 году Волгоградский педагогический инсти-тут, получила «свободный» диплом, а в конце ноября меня при-няли в штат редакции Среднеахту-бинской районной газеты «Звезда» литературным сотрудником.
Для начала было поручено на-писать передовицу. Это оказалось не очень трудно сделать, по сравнению с тем, что ждало впереди. Вакантным оставался сложный участок работы — «Вопросы строи-тельства, промышленности и тран-спорта». Я по натуре романтик, лирик. Всегда тянуло к людям, ис-тории их жизни, особенно нелегкой. Но выбора не было. Пришлось запастись соответствующей литера-турой и приниматься штудировать теорию по этим вопросам — су-хую и скучную. И все-таки, узнавая на житейских перекрестках удивительные судьбы, не удерживалась... Робко потом протягивала редактору материал об интересном человеке для рубрики «О людях хороших». Он не всегда принимал его с восторгом — нужнее были вести с производства...
 В те годы в районе с различной степенью успеха работали предприятия и организации многих отраслей. Газета дала мне возможность ощутить личную при-частность к их деятельности, собственную ответственность за выпол-нение планов, за качество продукции, за судьбу кадров.
В те годы в районе с различной степенью успеха работали предприятия и организации многих отраслей. Газета дала мне возможность ощутить личную при-частность к их деятельности, собственную ответственность за выпол-нение планов, за качество продукции, за судьбу кадров.
Редактор Яков Николаевич остался в памяти стройным, высоким человеком с внимательными глазами, очень интеллигентным. Руководителем, о котором справедливо сказать — «осердеченный ум». Мы считали его строгим, но всегда умеющим правильно понять, разобраться и решить трудную проблему. В нем была некая житейская мудрость, не декларируемая явно, но присутствовавшая во всем, что делал этот человек. Никогда его рационализм не вступал в конфликт с чувствами. Заключительные слова редактора на планерках неизменно были вдохновляющими и воодушевляющими: «Идите, копайте глубже, кидайте дальше!»
И мы «копали»... Я продолжала после институтской закалки ра-ботать, шлифуя такие качества, как ответственность, пунктуальность, училась правильному подходу к теме, особенно злободневной, точности подачи материала, аргументированности резюме. Пи-сала о том, что обязательно привлечет, заинтересует жителей. Знала, например, с каким нетерпением ждут новую школу в микрорайоне райцентра. С гордостью
- минаю, как «вела» этот пусковой объект. Регулярно выходили мои заметки с подробным ос-вещением хода строительных ра-бот. Контролировала строительст-во бани, кафе, торгового центра... Будучи народным заседателем, го-товила тематические страницы внештатного отдела административных органов. Постепенно «на-бивала руку», мои заметки стали чаще появляться на страницах районки, и я все больше влюблялась в газету.
ДОРОГОЙ МОЙ РЕДАКТОР
Кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера... Эти слова, пережитые и прочувствованные во времени, особенно близки, понятны и дороги стали сейчас. Пусть не мастер я, а все же, все же, все же...
...Сорок три года позади. Но как часто в перестроенном теперь внутри здании редакции на-шей газеты я мысленно снова, как наяву, вижу за широким столом в кабинете Якова Николаевича, на-правленный на меня мудрый, серь-езный взгляд — проницательный и спокойный... С этим человеком было приятно работать и творить. Я бесконечно благодарна ему за протянутую руку поддержки в на-чале журналистского пути. Он учил тому, что главное — найти свой стиль, оригинальный подход к раскрытию любой темы. В работе должно быть больше конкретики и меньше разглагольствований... Сам Яков Николаевич оставался признанным мастером слова.
Сколько раз, будучи совсем еще девчонкой по возрасту, хотя и дипломированным специалис-том, мне было сложно сориентироваться в какой-либо рабочей си-туации. И редактор тактично, ненавязчиво помогал войти в ритм корреспондентских будней.
Вспоминается статья «Дел непочатый край» с подзаголовком: «ПМК-7 медленно строит школу в микрорайоне». Рубрика: «На пусковых объектах». Эта публикация — результат моего очередного визита на строительную площадку. Я была очень довольна собой. Радовалась, что получился грамотный критический ма-териал. Только в следующий раз меня встретили там с обидой и отказом давать какие-либо сведения, предложив самой оценивать обстановку. Когда озвучили мою вину, я ощутила искреннюю растерянность и стыд... Ведь хотела, как лучше. Фразу: «Из интервью с начальником участка №3 В. А. Ревенко и прорабом В. С. Соловей выясняется...» допустила для большей убедительности и конкретики реального положения дел. Но эти названные люди, оказывается, потом от начальника ПМК и главного инженера «получили», как говорится, «по полной программе» за свою откровенность, поскольку открыли мне истинные причины задержки строительства. Я поделилась ситуацией с редактором, и он объяснил, что не всегда цель оправдывает средства. Журналистская этика не позволяет так пренебрежительно относиться к людям. По сути дела, я для получения информации подставила их и просто банально использовала. По-этому и потеряла доверие. Есть тон-кая грань, которую никогда нельзя переступать. Этот случай стал для меня одним из главных уроков, в результате которого я, следуя совету, отправилась изучать наш отраслевой «Кодекс чести».
А однажды, когда из командировки привезла готовую фотокарточку героя своего будущего очерка — дали на заводе, поскольку со мной не было фотографа, редактор не стал читать мо-раль о внимательности, а молча ткнул пальцем в сигарету в зубах передовика производства, стояще-го за станком... До сих пор злополучный снимок как назидание и укор находится в моем архиве.
Проводя совещания и планер-
ки, Яков Николаевич вносил инте-ресные предложения и эффектив-ные коррективы в работу редакции, следил за развитием внешней формы и содержательной стороны га-зеты. Никогда не говорил на повы-шенных тонах, но при этом был требовательным. Как же я хорошо помню его с легкой хрипотцой, ровный голос...
Словно на пленке кинематографа, высвечивается еще эпизод. Пришла я на работу осенним светлым утром радостная. Настроение было приподнятое — как обычно перед командировкой. И тут вдруг ответственный секретарь Виктор Григорьевич Баранов, оценивающе бросив на меня взгляд, иронично спрашивает:
— И куда это ты в таком виде собралась? Я в недоумении, со всех сторон себя оглядывая, отвечаю:
— На кирпичный завод, в цех керамзито-бетонных изделий. А что такое?..
— Там люди работают в пыли, грохоте и «копоти»... А ты — как со страницы журнала мод... О контрасте не думаешь?..
Я не знала что сказать... В мыслях вертелось: «Не в робу же одеваться...». На мне была белоснежная рубашка, в руке такая же сумка, на ногах лакированные бо-соножки. Новенький, только что сшитый черный строгий костюм классического стиля: брюки и жилетка — очень достойно смотрелся. Было обидно и жаль себя... Я спешно ретировалась, что-бы выплакаться, в крошечный кабинетик машинистки Александры Николаевны Кадочниковой. Через некоторое время открывает-
ся дверь, и в проеме появляется не присутствовавший при нелицеприятном разговоре Яков Николаевич. Он с лукавинкой в улыбке говорит:
— Ладно уж, выходи. Дела не ждут... И — вдогонку теплая шут-ка:
— Смотри, Галина, строчки чтобы твоему «прикиду» соответ-ствовали!
За надежной спиной редактора работалось спокойно. Он всегда мог защитить своих сотрудников. Порой мы на планерке решали, что все-таки рискнем — на пользу дела — опубликовать «острый» материал. Впоследствии приходил Яков Николаевич, бывало, со встречи «на высоком уровне» мрачнее тучи. Говорил, что стоял, как проштрафившийся мальчишка, в «торце» стола руководителя района... Но если сло-во печатное оказывалось дейст-венным — проблемы решались, мы с удовлетворением считали эту победу заслуженной, справедливой отдачей нашей работы.
Редактор объединил нас в единую команду, создал особенный микроклимат, в котором «творили» мы свое «детище» — газету вдохновенно и ответственно. Я, самая молодая из журналистов, кроме того, отвечала за выпуск настенной газеты, где отражались производственные дела, личные праздники, государственные памятные даты. Наши совместные мероприятия не забыть. Торжест-венно дарили подарки коллегам на дни рождения. Активно проводили субботники, организовывали выезды в пойму с купанием в ерике, приготовлением еды на костре... Сколько же там было ве-селья и смеха! Смотрю на фотографии с тех мест событий — и... не могу справиться с трепетом вол-нения...
Непоправимым горем легло на сердце известие о том, что нет больше Якова Николаевича. Тяже-лая, неизлечимая болезнь прервала его земной путь, где была работа сначала заместителем редактора и последние 14 лет — должность редактора.
ВСЕ БЛИЖЕ, ВСЕ ДОРОЖЕ...
В педагогической круговерти моих лет вспышки памяти вдруг ярко высвечивают дорогие моменты ушедшей юности: неболь-шое, из белого кирпича здание редакции в Средней Ахтубе, и я за столом, «над строчкой голову склоня...».
Бережно храню все свои материалы (вырезки) за 43 года, отдан-ных газете. Основная часть архива — работы за подписью внештат-ника.
Говорят, мой дом — моя крепость, где и стены помогают. Для меня дом — в первую очередь, редакционное здание и коллектив в нем. Потому что дом — это место, где тебе спокойно, где ты можешь быть самой собой и ощущать собственную значимость. А еще — разве можно переоценить всю прелесть свободы сказать сокровенное слово, получая при этом такой желанный вкус настоящего творчест-ва?.. Моя жизнь — моя «районка».
Поэтому продолжаю идти по судьбе, крепко держась, как за вол-шебное перышко Синей птицы, за лучик любимой «Звездочки», у которой 5 июля 2016 года был слав-ный юбилей — 85 лет.
Свети, сияй, моя «Звезда!»

РУБРИКА:
РОССИЙСКОЕ РОДОСЛОВИЕ
«НАЙТИ СВОИ КОРНИ»
Нина
ШАЛАГИНА
(г. Одесса, Украина)
ИРИНА «УРВИ-БЕРЕГА»

Шалагина (Густокашина) Нина Григорьевна родилась в 1925 г. в с. Колывань Алтайского края. Окончила Ленин-градский институт кинематографии. Работала старшим преподавателем промышленной электроники в Одесском политехническом институте. Вырастили с мужем двоих дочерей, дождались двоих внуков.
Посвящается моей матери, Ирине Анисимовне.
Я прожила долгую и счастливую жизнь, во многом благодаря моей матери. Я получила высшее образование, преподавала, много путешествовала, общалась с интересными людьми. Мы с мужем обеспечивали семью материально, но мелкие бытовые вопросы лежали на плечах моей матери, она была хранительницей нашего семейного очага, семейных тра-диций.
Моя мать, Ирина Анисимовна Можаева, родилась в апреле 1902 года в с. Колывань Змеиногорского района Алтайского края. Роди-тели — переселенцы в Сибирь из Оренбургской губернии: Анисим Петрович Можаев (1848 —1920) и Александра Петровна (1849—1933) нарекли ее Анастасией, но по святцам батюшка записал Ири-ной. Это обнаружилось позже. В семье оказалось две Ирины, потом первую называли Арина-рас-садница (на 20 лет старше, от первого брака Анисима), а Ирину-младшую, о которой пойдет речь ниже,— Урви берега.
По народному календарю Аринин весенний день рождения совпадал с посевами семян капусты в рассадники, специальные ящички с плодородной землей. А еще люди подмечали, что в Аринин день часто заканчивался разлив рек, вешняя вода уходила, оставляя за собой подмытые берега рек, отсюда — «урви берега».
Характер младшей Ирины соответствовал ее имени: живой, эмо-циональный, с «изюминкой». Она в любой ситуации не терялась, смело принимала решения, легко сходилась с людьми, была доброй и ответственной перед семьей и родственниками. А жизнь у нее бы-ла нелегкая.
Из четырех сестер она одна закончила шесть классов церковно-приходской школы, пела в цер-ковном хоре. В 17 лет вышла замуж за Григория Сергеевича Густокашина, которому было тогда 25 лет (1894—1942). Жили сначала у его матери, но не долго. Ирина не захотела жить в большой семье, осваивать гончарное производство. Сделала одну косую-кривую «колыванку» (изделие типа небольшого тазика), с тем и ушли жить самостоятельно в крохотную избенку, переделанную из бани. Григорий работал шлифовальщиком на камнерезной фабрике. А вообще был мастер — золотые руки. Сапожничал, ремон-тировал и настраивал музыкальные инструменты: гитары, гармоники, ба-лалайки. Впоследствии, в Рубцовске, пройдя практику у ювелира, рабо-тал в Торгсине по приему драгметаллов.
В Колывани Ирина успела ро-дить четверых детей: два мальчика и две девочки. Выжила только одна я, Нина, 1925 г.р. Я была третьим ребенком в семье. В Колывани Ирина работала заведующей детским садом. Когда на-чалась коллективизация, первой из семьи уехала в ближайший город, Рубцовск.
Сначала она там работала белошвейкой, потом заведующей по-
шивочной мастерской. Постепенно вытаскивала в город своих сестер, племянников и племянниц.
У Ирины были два брата: Петр и Фома и три сестры — Ирина Поднебеснова, Прасковья Кудино-ва, Татьяна Красникова (фамилии по мужу). Через Густокашиных, с остановками в Рубцовске, переехали в другие города Сибири Мо-жаев Фома с женой Марией, детьми Петром и Прокопием, а также все дети Ирины Поднебесновой — девять человек; дочь Прасковьи Анна Кудинова.
Григорий работал в Рубцовске приемщиком золота. Когда в одном городе прием золота заканчивался, Григория переводили в другой (Барнаул, Новосибирск) и по ближайшим станциям. Из командировки он однажды привез тифозную сыпную вошь. Ирина, жена его, тяжело переболела сып-ным тифом с осложнениями на ноги. Это была осень — зима 1933—34 гг., весной 1934 г. Григорий уволился из Госбанка. И вчетвером, Григорий, Ирина, я — их дочь Нина восьми лет — и племянник Петр Фомич Можаев (13 лет), поехали в Крым на Евпаторийские грязи.
Фома, брат Ирины, был арестован как кулак в 1932 году. Ирина, чтобы увидеть его, пожертвовала обручальным кольцом — отдала охраннику. Фома попросил ее взять на воспитание одного племянника, сам умер в тюрьме. А Ирина просьбу исполнила: Петр жил в ее семье до войны.
Лиманские грязи помогли выздороветь Ирине. Она устроилась там на работу сестрой-хозяйкой в санатории, а Григорий стал работать в карьере. Осенью вернулись в Рубцовск. По приглашению глав-врача больницы, Ирина стала работать зав. прачечной и кастелян-шей. Григорий Сергеевич стал за-ведующим продуктовым магазином. Заболел язвой желудка, долго лежал в больнице. В это время в магазине обнаружили недостачу, пришлось выплачивать. А тут при-шел иск из Колывани на алименты матери Григория. Платить было не-чем. Описали швейную ножную ма-шинку «Зингер», велосипед Нины, охотничье ружье. Григорий Сергее-вич опять уехал на заработки, на канал Москва — Волга.
В 1936 г. Ирина отправила ме-ня к родственникам в Колывань, а сама поехала к мужу в Дмитлаг, лагерь для заключенных на станции Большая Волга. Григорий был вольнонаемным. Жили они в бараке для вольнонаемных. Он работал шлифовальщиком монументов Ле-нина и Сталина.
Небольшое отступление. Спасибо моим внукам: они помогали мне в написании этих воспоминаний и находили в Интернете современные сведения о местах, где пришлось жить и работать на-
шей семье.
Станция Большая Волга есть и поныне. И статуя Ленина возвышается над каналом. По сведениям из Инернета, высота каждой статуи была 15 м, а с постаментом — 26 м. Обе статуи скульптора С.Д. Меркулова. Работу над скульптурами выполняла команда из двенадцати человек. Монумент Ленина был сделан из блоков, идеально пригнанных друг к другу. А голова Сталина была целиком высечена из скалы. Поднимали ее на специальном подъемнике. В хру-щевские времена памятник Сталину был взорван.
По окончании работ Григорий уехал в Симферополь, работал на строительстве зданий, отделывал их мрамором. Жил в крохотной комнатушке в частном секторе.
Ирина в Рубцовске работала на двух работах и еще занималась на курсах физиотерапевтических сестер. Поскольку ей было трудно осваивать физику, то раздел «Электричество» она осваивала вместе со мной. Мне было двенадцать лет. Медицинские книги давали знакомые врачи, Крюковские.
В 1937 году по ночам стала исчезать рубцовская интеллигенция: врачи и журналисты, банковские служащие и артисты. Ирина со мной и Петей Можаевым уехала среди учебного года к мужу в Симферополь. Там я пошла в пя-
тый класс, а Петя занимался в ОСОВИАХИМе. Ирина устроилась стрелочницей на железную дорогу. Лето и зима 1938—39 го-дов прошли благополучно. Ездили семьей отдыхать на реку Сал-гир, на море. Я училась в новой школе. Петра забрали в армию, слу-жил в Бессарабии.
Проработав год на железной дороге, Ирина заслужила право на бесплатную поездку на поезде. Первый раз я была с мамой в Ленинграде. Осмотрели музеи и двор-цы Екатерины в Царском селе, дворец Павла в Павловске и Гатчину.
До Отечественной была еще Финская война. В этот период мы оказались в пос. Новостройка Ка-лининской области. Жили в бараке, отапливались срезанной ночью березой. Затемнения и нехватка продуктов, болезнь Григория малярией заставила искать другое место жительства и работы.
Во время войны нельзя было просто так уехать, только переводом с одного оборонного предприятия на другое. Таким местом оказалось Ступино, юго-запад Мо-сковской области, авиационный комбинат-150. Ирина стала работать пирометристкой, а мой отец в литейном цехе.
Отечественная война застала нашу семью Густокашиных в по-
селке Акри, г. Ступино. В двухстах метрах от дома, где мы жили, был военный аэродром, в трех км — завод, выпускавший авиа-двигатели, в семи км — Каширская ГЭС. Достаточно объектов для бомбежки. Москва ощетинилась дирижаблями, воздушными шарами, сотнями зениток. Война в воздухе захватила и поселок Акри. Окна завалили мешками с землей, кругом окопы, а за водой надо было ходить к роднику, где всегда была очередь.
Ирина всегда опекала родст-венников. Перед войной к нам прибилась Анна Кудинова, племянница Ирины.
Во время эвакуации 25 октября 1941 года семья Густокашиных с Анной Кудиновой сели в теплушку последнего эшелона, который вез демонтированное оборудование. Им выделили нары для вещей, где можно было сидеть и спать по очереди. В последний момент прибежала Анна, спросила у тети Ирины, где ее документы. Ирина сказала, что в красном чемоданчике. Анна схватила его и убежала, не попрощавшись с нами. Оказывается, ее направили на курсы по подготовке партизанских отрядов. Вместе со своими документами она захватила и мои: только-только полученный паспорт (мне исполнилось 16 лет), метрическое свидетельство, все справки из разных школ, частично справки Ирины. Хорошо, что трудовые книжки Ирины и Григория были в отделе кадров эвакуировавшегося завода, а их паспорта при себе.
Выехали из Подмосковья после начала контратак, организован-ных маршалом Жуковым. Эшелон периодически бывал брошен в при-фронтовой зоне без паровоза и машиниста. Над составом часто летали немецкие самолеты, однажды на станции состав обстреляли. Позже в тюках с вещами находили пули и щепки от стенок вагона. Как не сгорел вагон — чудо, однажды он стоял рядом с домиком железнодорожника, который загорелся при обстреле.
Полтора месяца езды от Мос-квы до станции УАЗ (г. Каменск-Уральский), питание одной пареной пшеницей сильно ослабили здоровье Григория Густокашина. Урал встретил их 40—50-ти градусными морозами. Должны были 200 человек разместить в металлическом ангаре, где было толь-ко две буржуйки. Но Густокашиных встретила знакомая, Лариса Жеребцова, поселила к своим ро-дителям, которые вшестером жили в одной комнате в бараке. Она спасла нас от замерзания. Потом нашу семью устроили в деревне Монастырка, за рекой Исеть.
15 января 1942 года Григорию стало совсем плохо. Ирина пошла за врачом. Но в ее отсутствие отец умер на моих руках.
Провожали гроб на розвальнях, втроем. Зарыли гроб в снегу между крестов, оставив табличку: Густокашин Григорий Сергеевич 21.10.1894 г. — 15.01.1942 г.
Списавшись с рубцовскими друзьями Крюковскими, Ирина и я приехали без документов в Руб-цовск, у Крюковских и жили.
Ирина стала заведовать прачечной. Я сдала экзамены экстерном за девятый класс и стала учиться в десятом классе, в школе им. Кирова. Ребят из девятого класса школы отправляли в военные училища, а девчат на лесозаготовки. Окончив на «отлично» де-сятый класс, я с подругами поехала в Самарканд, поступать в институт. Подруги поступили на химико-фототехнологический фа-культет, а я — на электротехнический. Нас приняли как отличниц без экзаменов и сразу отпра-вили на уборку хлопка за реку Зеравшан, а поздней осенью мы работали на строительстве плотины для ГЭС, занимались и сдавали экзамены всего в течение двух—трех месяцев. Поскольку у меня был опыт самостоятельной работы над технической литературой, я благополучно сдала экзамены за два семестра.
А у Ирины Анисимовны в Руб-цовске случилась беда. Сгорели прачечная и склад, за который отвечала одна женщина с двумя детьми.
Ирина всю вину взяла на себя, и ее за халатность по пожарной безопасности осудили на пять лет колонии общего режима. Отбыва-ла она срок в 1944—1945 годах в Рубцовской колонии. Амнистию получила через два года, и в марте 1946 года приехала ко мне в Ленинград, куда вернулся из эвакуации мой институт, ЛИКИ. Мои друзья нашли для мамы жениха с девятиметровой комнатой в коммуналке. Конечно, брак был фиктивный, это было видно, но жених был инвалидом войны, нуждался в уходе, так что все обошлось нормально. Он получил день-ги и уехал. Впервые в жизни Ирина имела свою комнату. Я же была прописана в общежитии, на Фонтанке 53, сдавала в это время «хвосты», так как опоздала на сес-сию на три месяца, и работала на полставки в институте.
Ирина устроилась санитаркой в больницу им. Куйбышева на Ли-говском проспекте. За отличную работу была награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ».
Я отлично закончила в 1949 году институт, ЛИКИ (в настоящее время Санкт-Петербургский университет кино и телевидения), по специальности «Запись и воспроизведение звука». Диплом защитила на электрофаке на тему «Звуковой генератор типа КС на фиксированных частотах для исследования частотных и нелиней-ных искажений усилительных устройств». Генератор был самостоятельно изготовлен и продемонстрирован членам ГЭКа. После защиты дипломной работы я получила направление в Москву, на работу в «Управление образования Министерства кинематогра-фии». Чиновническая деятельность меня не привлекала, удалось сменить направление на работу в Одесскую школу киномехаников. Так я оказалась преподавателем «Электроники» и «Усилительных ус-тройств». Затем я работала много лет преподавателем в Политехни-ческом институте г. Одесса. Одес-ский собес дал мне звание участника Отечественной войны. В 38 лет я стала старшим преподавателем на кафедре «Промышленная электроника», читала три кур-са «Электронные, ионные и полупроводниковые приборы», «Промышленная электроника», «Технология, конструирование и на-дежность электронной аппаратуры».
Мне повезло: я была у истоков развития современной электроники, фотодела и телевидения. Вспоминаю, как в 70—80-х годах минувшего века была на повышении квалификации в Электротех-ническом институте связи им. Ульянова-Ленина. В то время мы на заводе «Светлана» внедряли микросхемы, светодиоды и сенсорное управление.
В Одессе я вышла замуж за Шалагина Анатолия Дмитриевича.
Через год, ко дню рождения внучки Лены, в октябре 1950 года, Ирина переехала в Одессу и стала хозяйкой дома Шалагиных, вначале на улице Перекопской Победы, вблизи лестницы с памятником Дюку, куда ходили с Леной гулять, а вскоре переехали в только что восстановленный после войны дом на ул. Торговая 8. Вскоре к семье присоединилась мать Анатолия.
Сперва зять Анатолий не по-нравился Ирине. Некрасивый, ху-дой, малоразговорчивый, хромой. Не дамский угодник.
Анатолий Дмитриевич Шалагин (1917—2002 гг.) был из «починка» Шалагиных Яранского уезда Вятской губернии, там его корни. Но Анатолий, его брат Аркадий и сестра Вера родились в Усть-Каменогорске.
Свои зрелые годы Анатолий Дмитриевич отдал энергохозяйству Одессы. Он проработал трид-цать лет главным инженером Одес-ской ТЭЦ, восемь лет был директором электростанции, а вообще отдал энергетике пятьдесят четыре года своей жизни.
С юности он был лидером. В двадцать три года командовал взводом автоматчиков 73-го полка морской пехоты на Волховском фронте. 72-й и 73-й полки морской пехоты разъединяли немцев и финнов, чтобы обеспечить безопасность дороги жизни через Ладожское озеро. О военном периоде его жизни лучше всего рассказывает стихотворение, написанное им в 1942 году.
БОИ ПОД СИНЯВИНО
Горелые кочки, торфяник,
да вереск,
Да рощи, в безветрии днем
Мерцают, неверному свету
Доверясь,
То желтым, то алым огнем.
Здесь все, что земля берегла
и растила,
Чем с детства мы жили
с тобой,
Смели, искалечили тонны
тротила,
Развеяли пылью слепой.
Но снова сгорая, как факелы,
в танке,
В грязи под шрапнельным огнем,
Клянемся смертельною
страстью атаки,
Мы с этой земли не уйдем!
Так вот она, милая Родина наша,
Болота сожженный огрех,
И щепки, и торфа багряная
каша,
Летящая брызгами вверх.
А там, оседая в разрывах
мохнатых
Обломками бревен в траву,
Глядят, погибая, Синявино хаты
Провалами рам за Неву.
И глохнут снаряды, в трясине
прочавкав,
И катится снова «Ура!»
Туда, где тревожная невская
чайка
Над берегом бьется с утра.
Прыжками, бегом, от воронки к воронке,
Пройти сквозь клокочущий ад,
Туда, где на синей, на облачной
кромке,
Полоской плывет Ленинград.
На сайте «Podvignaroda» («Подвиг народа») имеются сведения о представлении Шалагина А.Д. к награде — ордену Отечественной войны II степени. № записи — 49952189:
«Инженер-лейтенант Шалагин А.Д. призван в РККА с 8.07.1941 г. Сталинским РВК г. Одессы. Шалагин А.Д. участвовал в боевых действиях в составе 73 морской стрелковой бригады на Северо-Запад-ном и Волховском фронтах в дол-жности командира отдельного взво-да автоматчиков. На фронте находился с 11 декабря 1941 года по 28 сентября 1942 года. За боевые заслуги досрочно присвоено воинское звание «Инженер-лейте-нант». Неоднократно участвовал в боях, имеет на своем счету до 25 человек убитых финнов и нем-цев. Участвовал в боях на р. Свирь с финнами и в июльско-сентябрь-ских боях с немцами. За боевые де-ла имеет ряд благодарностей от ко-мандования батальона и бригады. Участвовал в командирских разведках по выяснению обороны финнов на р. Яндебе севернее г. Лодейное поле. В боях получил 1 легкое и 1 тяжелое ранение — анкелос правого коленного су-става, инвалид 3 группы».
Слава Богу, Ирина прожила с нами тридцать пять лет. Она верила в меня и смогла увидеть до-брую душу Анатолия, его трудолюбие и терпимость.
Благодаря маме я пятьдесят семь месяцев провела в Ленинграде, часто ездила в командировки и на лечение. Во всем можно было положиться на нее и на Анатолия. Какое счастье иметь дружную семью, любовь и взаимопонимание.
У нас с Анатолием двое доче-рей — Елена, 1950 г.р, и Валентина, 1955 г.р. Дочери получили высшее техническое образование, по семейной традиции, вышли за-муж за Анатолиев. У Елены — сын Миша Гордейко, у Валентины — сын Юрий Букша.
Ирина Анисимовна, моя мама, вырастила внучек, успела увидеть правнуков. Умерла в 1985 году, похоронена в Одессе.
Она была хранительницей семейных связей нескольких поколений. Принимала гостей, писала письма, высылала посылки родственникам. Меня с дочерями при-учила к уважению семейных традиций. Мама была «корнем» на-шего дома, нашего рода. О ней я вспоминаю почти каждый день, посвящаю ей эти стихи:
«Мотор» подводит и трясутся
руки,
И ложку полной уж ко рту
не донести,
Мой мир — кровать и тумбочка с лекарством,
И двор, который с палкой трудно обойти.
Зачем живу? Казалась жизнь
напрасной,
Но жизнь не даром Богом нам
дана.
Умейте дорожить минутой
каждой,
А дух родительский не даст
сойти с ума.
Я знаю, что сейчас я —
корень дома,
И этот дом наполнен,
он не пуст.
Дух материнский жить
поможет снова,
Есть корень,— жизнь цветет, как розы куст.

Елена
ВЕЙДЕ-ВЯЛОВА
(г. Москва)
 Елена Борисовна Вей-де, урожденная Иванова, в замужестве Вяло-ва, родилась в Москве 20.12.1937 г.. Отец Ива-нов Борис Владимирович (1917—1992) — журналист, мать Вейде Ирина Борисовна (1917—1986) — служащая. В 1961 г. окончила Географический факультет Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова. Около 40 лет проработала в средней школе учителем географии, последние 15 лет перед выходом на пенсию — директором школы, в г. Волжском Волгоградской области, где живет и сейчас. С 2000 г.— на пенсии. С 2003 г. начала заниматься генеалогией, составила шесть родословных росписей своих предков. В 2012 г. в журнале «Нумизматика» опубликована первая ее статья, посвященная предкам — участникам Отечественной войны 1812 г. Затем были две публикации в журнале «Генеалогический вестник» СПб (из родословных росписей Болтиных) и одна — в Сборнике Царицынского генеалогического общества, посвященная генералу А.А. Вейде («Как я развеяла семейную легенду»). В 2016 г. было два выпуска книги «Мозолевские и др.» (родословная роспись). В Обществе потомков-участников Первой мировой войны готовится сборник, где будет помещена ее статья «Мои деды — участники Первой мировой войны». Круг интересов обширный: генеалогия, ис-тория, иностранные языки, искусст-во, музыка и др..
Елена Борисовна Вей-де, урожденная Иванова, в замужестве Вяло-ва, родилась в Москве 20.12.1937 г.. Отец Ива-нов Борис Владимирович (1917—1992) — журналист, мать Вейде Ирина Борисовна (1917—1986) — служащая. В 1961 г. окончила Географический факультет Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова. Около 40 лет проработала в средней школе учителем географии, последние 15 лет перед выходом на пенсию — директором школы, в г. Волжском Волгоградской области, где живет и сейчас. С 2000 г.— на пенсии. С 2003 г. начала заниматься генеалогией, составила шесть родословных росписей своих предков. В 2012 г. в журнале «Нумизматика» опубликована первая ее статья, посвященная предкам — участникам Отечественной войны 1812 г. Затем были две публикации в журнале «Генеалогический вестник» СПб (из родословных росписей Болтиных) и одна — в Сборнике Царицынского генеалогического общества, посвященная генералу А.А. Вейде («Как я развеяла семейную легенду»). В 2016 г. было два выпуска книги «Мозолевские и др.» (родословная роспись). В Обществе потомков-участников Первой мировой войны готовится сборник, где будет помещена ее статья «Мои деды — участники Первой мировой войны». Круг интересов обширный: генеалогия, ис-тория, иностранные языки, искусст-во, музыка и др..
ПЕРВОПРОХОДЕЦ РАСКОПОК
НА ТАМАНИ:
МОЙ ПРЕДОК — ВЫХОДЕЦ ИЗ ГОЛЛАНДИИ
«Мы ничем иным не воздадим так полно своего уважения к памяти предков, как правдивым выяснением всех сторон их жизни на основании вещественных и письменных памятников».
«Старая Москва», вып.1, 1912.
Уже несколько лет я занимаюсь родословной моей мамы фон-дер-Вейде. С самого детства я слышала, как моя мама говорила, что родоначальником рода фон-дер-Вейде был известный в свое время генерал, сподвижник Петра I, Адам Адамович Вейде. В Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона есть неболь-шая заметка о том, что генерал-аншеф А.А. Вейде, сын немецкого полковника, родился в 1667 го-ду (по другим данным в 1657 г.) в Москве, был в потешных войсках Петра I, участвовал в Азовских по-ходах, в Великом посольстве 1698 г., cоставил первый Воинский ус-тав в 1698 г., организовал дивизию, с которой принял сражение под Нарвой в 1700 г. и был взят раненым в плен. Провел в шведском плену 10 лет, в 1710 г. был обменен на рижского губернатора, вернулся, участвовал в Прутском походе в 1711 г., затем — в Гангутском сражении в 1714 году, за что был награжден орденом Св. Андрея Первозванного. Вице-президент Военной коллегии и се-натор с 1718 г.. Умер в июне 1720 г.
Мария Михайловна Терницкая, урожденная фон-дер-Вейде, сестра моего деда Бориса Михайловича, говорила, что в семье у них хранился золотой портсигар, на котором было написано «Адаму — Петер». Сделаю небольшое от-ступление. В семье действительно был золотой портсигар, но он был подарен Николаем I во время его пребывания в Риге в 1910 г. моему прадеду, в то время на-чальнику Рижского порта дейст-вительному статскому советнику Михаилу Михайловичу фон-дер-Вейде. Так что, возможно, было два портсигара, или Мария Михайловна что-то напутала. И когда я, много лет спустя, стала заниматься своей родословной, ко-нечно, начала с этого генерала. Пе-ресмотрела множество книг, словарей, дневниковых записей его со-временников. По статьям из Полно-
го собрания законов Российской империи определила по годам и месяцам его деятельность, из повседневного журнала за 1717—1720 гг. князя А.Д. Меншикова (1673—1729) буквально по дням узнала о его жизни. Сделала выписки из дневниковых записей секретаря австрийского посла Иоанна Георга Корба (1672—1741) и датского посланника Юст Юля, где упоминается о нем. В архиве древних актов нашла письмо князя Андрея Яковлевича Хилкова (1676—1718), дипломата, резиден-та в Швеции, который находился вместе с А.А. Вейде в шведском плену, и где он описывает, как генерал пытался бежать из плена и в каких условиях он содержался после поимки. Узнала из всего собранного материала, что он был дважды женат, что от первой жены были две дочери, которые умерли еще до его смерти. Одна из них была замужем за племянником Франца Лефорта — Петером фон Лефортом (1676—1764), другая была помолвлена с генералом Боном, но накануне свадьбы покончила с собой. Было у него два брата Франц и Иван. Франц Адамович, майор, погиб под Ригой в 1709 г. Об Иване известно, что он был пажем при графе Ф.А. Головине (1650—1706) во время Великого посольства 1698 г.
В книге О.Р. Фреймана упоминается Адам Адамович Вейде
как сын петровского генерала А.А. Вейде, паж с 1727 г., камер-паж с 1730 по 1732 г. И все, больше о нем нигде не упоминается: ни в литературе, ни в архивах, во всяком случае, мне нигде не встречалось. Когда я начала восстанавливать свою родословную по Адрес-календарям, дошла до Василия Григорьевича фон-дер-Вейде (прадед моего деда Бо-риса Михайловича). Решила, что Григорий, возможно, сын Адама-пажа. По годам подходит. Но ме-ня удивило: ни в послужных списках, ни в Деле о дворянстве фон-дер-Вейде почему-то не говорится, что они потомки знаменитого генерала. А родословная схема в «Деле о дворянстве фон-дер-Вейде» начинается с Григория — Герарда фон Вейде, прибывшего в Россию из Голландии в 1786 г. Во всех же сведениях о генерале А.А. Вейде говорится, что он сын немца. Вот такие были сомнения, которые усилились после того, как я получила материал о Вейде от Александра Вадимовича Богинского, члена Историко-родо-словного общества Москвы и РГО СПб. Он нашел в картотеке известного специалиста по рус-ской истории, профессора-генеа-лога Э. Амбургера (1907—2001), что мой пращур Герард (Григорий) Вейде, приехавший по приглашению русского правительст-ва из Голландии, не имеет никакого отношения к Адаму Вейде. Но я все-таки продолжала поиски, чтобы найти документальное подтверждение этому. И нашла в архиве военно-морского флота в бумагах Президента Адмиралтей-ств-коллегии адмирала Ф.М. Ап-раксина (1661—1728). Оказывает-ся, 7 июля 1720 г. был издан именной царский Указ (А.А. умер 20 июня 1720 г.) о том, чтобы все имущество и мызы, которые были пожалованы генералу в 1715 г. в Эстляндии были отписаны ко дворцу его царского величества. Значит, наследников нет?! 13 ап-реля 1731 г. «высочайше утвержден доклад Сената об оставлении эстляндских мыз, пожалованных Петром Великим генералу А. Вейде, во владении внучки его, дочери генерал-лейтенанта Пе-тера фон Лефорта». Но самый интересный документ был в том же фонде Ф. Апраксина: письмо от генерал-майора обер-коменданта Ревеля (1662—1735) фон Дельдена от 2 марта 1721 г. Здесь я на-шла подтверждение тому, что Адам Вейде, обучавшийся в Пажеском корпусе, был не сыном, а племянником генерала и пасынком фон Дельдена. Скорее всего, это был сын одного из братьев Адама Адамовича. Значит, прямых наследников у А.А. Вейде не было.
Когда я поняла, что генерал А. А. Вейде не является нашим пред-
ком, стала искать сведения о Герарде фон Вейде. Впервые я на-шла его в книге Ивана Новикова «Пушкин в изгнании» (М., 1954, стр. 56). Когда А.С. Пушкин сидел на Кавказском берегу в ожидании переправы в Керчь, старый рыбак рассказал ему о генерале Вандервейде, солдаты которого «разрыли курган неподалеку отсюда и нашли там несметные клады. А самому генералу препод-несли толстую вроде цепочку на руку, золотую, украшенную дорогими камнями». А.С. Пушкин с семьей Н. Раевского проезжал здесь в 1820 г., поэтому старый рыбак мог быть свидетелем тех событий. Но откуда узнал писатель об этом неизвестно.
Примерно о том же, т.е. о раскопках на Тамани, написано у зна-менитого путешественника П.С. Па-лласа (1741—1811) в его книге «На-блюдения, сделанные во время пу-тешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793—1794 годах». Там он пишет: « …в разрытом кургане на Тамани был найден массивный золотой браслет с змеиной головой грубой работы, попавший в руки умершего в Тамани инженера Ван-дер-Вейде». Но в 1793—1794 годах ге-нерал был еще жив. Совершенно очевидно, что во время пребывания П. Палласа там не было ге-нерала, и курган еще не был раскопан. Оказывается, эту приписку сам Паллас сделал в более позднем, 1803 г., издании своей книги. И здесь он ссылается на английского путешественника Е.Д. Клар-ка, который встречался с генералом Вандервейде, и тот показывал ему браслет. В книге «Исторический обзор археологических исследований и открытий на Таманском полуострове» К.К. Герца — профессора археологии Московского университета, написано, что Кларк сделал рисунок раскопанного генералом кургана вскоре после раскопок, т.к. на нем изображен ка-менный свод погребального склепа, камни которого в 1800 г. еще не были расхищены местными жи-телями. Последние имели обычай вскоре после открытия каменных гробниц из насыпей брать камень для своих построек. Е.Д. Кларк был на Тамани 11—12 июля 1800 г. В своей книге «Travels in various countries of Europe, Asia and Afrika. London. 1811—1823. P. 396—398» он подробно описывает встречу с генералом, разрытые кур-ганы и золотой браслет. Браслет в виде двух змеиных голов из чистого золота, усыпанный рубинами и украшенный искусной гравировкой, диаметром 3 на 2 дюйма и весом ¾ фунта. Раскопан был самый большой курган, в котором был обнаружен каменный двухкамерный склеп. Большинство ве-щей из него было разграблено или перебито солдатами, привлеченны-ми для раскопок. Это были еще ненаучные раскопки, а случайные, связанные со строительными работами. Но, тем не менее, Ван-дер-Вейде считается одним из первооткрывателей Таманских древностей. Так считал и Н.И. Веселовский (1848—1918), известный русский археолог, первым исследовавший причерноморские и скифские древ-ности. Несколько дополнений я на-шла в книге директора Петербургского филиала РАН И.В. Тункиной «Русская наука о классических древностях Юга России XVIII — середина XIX в.». СПб, 2002 (стр. 318, 562—564, 607). «Генерал слыл местным антикварием. Дом его в ст. Тамань украшали два льва в натуральную величину, а два других находились у церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Ныне описанный выше бра-слет находится в Первом отделении Эрмитажа под № 165». Из всего вышесказанного следует, что Ван-дер-Вейде появился на Тамани и сделал свои находки не ранее 1798 г., а, скорее всего, в 1800 г. Год смерти указан в книге И.В. Тункиной неверно. Не мог он уме-реть в начале 1800 г., если в июле встречался с Е.Д. Кларком.
В Российском государственном историческом архиве я нашла Указ Екатерины II № 156 от 28 октября 1786 г. о назначении жалованья принятому на службу ин-женер-капитану Герарду фон Вей-де по тысяче рублей на год и выдаче ему на проезд шестисот пяти-
десяти рублей.
В 2013 г. мой племянник Михаил Андреевич Масленников по-бывал в архиве г. Гааги (Голландия) и нашел интересные сведения о Герарде Ван-дер-Вейде, его родителях и семье. В разных документах встречается различное написание его фамилии. «Фан» стало в русифицированном варианте «ван», а затем переделано в более привычное для русских не-мецкое «фон».
Герард — по русской версии Григорий (Gerrick van der Weyde — по данным из Гаагского архива) Ван-дер-Вейде, капитан-инже-нер водных коммуникаций, прибыл в Россию из Голландии в октябре 1786 г. по вызову Екатерины II.
Родился в 1759 г. в Гааге. Его отец — Hendrik van der Weyde (1733—1782) был нотариусом (наз-начен 8 апреля 1757 г). Мать — Pieternella von Putte (1736—1787). В службу российскую вступил 28 октября 1786 г. в Риге и занимался «строением шлюзов во рву». Жена его, Якомина ван Хаагендорн, брак с которой был заключен в Гааге в сентябре 1785 г., была крещена там 12 апреля 1761 г. Для нее это был первый брак, для него — второй. Она еще оставалась в Голландии, т.к. их сын Ян Хенрик (Иван Григорьевич) родился в декабре 1786 г. в Гааге, и крещен 16 января 1787 г. там же. Была еще годовалая дочь, рожденная при отце в 1785 г. Остальные дети родились уже в Риге (из картотеки Э. Амбургера). Все они носили отчества «Григорьевичи». У него было семеро детей, но трое умерли в детстве.
В Гааге жила младшая сестра Герарда — Корнелия Любертина Ван-дер-Вейде (1767—1808), писательница, в замужестве за юристом Жаном Анри де Виллате (1757—1797). Именно из ее биографии я узнала год рождения Герарда.
В 1787 г. он обращается в Академию наук с письмом. Из протокола заседания АН от 22 февраля 1787 г.: «получено письмо капитана инженера Ван-дер-Вейде из Риги. Он сообщает, что будет со-провождать инженера майора Вит-те в путешествии для проектирования речного сообщения, и просит снабдить его инструментами для определения географических координат мест, где будут останавливаться. Он обещает присылать не только астрономические наблюдения, но и карты рек и берегов, которые он сможет собрать и начертить». Просьба была удовлетворена. Здесь он характе-ризуется как естествоиспытатель. Была ли в дальнейшем связь с АН неизвестно.
Вот его небольшой послужной список, который мне удалось най-ти в военно-историческом архиве в Москве. В 1790 г. — кавалер ордена Св. Владимира 4-й ст. В этом же году 15 декабря вице-пре-зиденту Адмиралтейств-коллегии графу И.Г. Чернышову поступает два письма из Риги: первое от инженера-капитана Й. Кайзера, где он пишет о том, что назрела необходимость проверки и исправ-ления карты побережья Финского за-лива. Он не мог начать эту работу, т.к. искал человека, который мог бы помочь ему в этом. И вот он нашел такого — это офицер, инженер-капитан Г. Ван-дер-Вейде, «испытанный в географических операциях и всеми учеными в Европе таковым признаваемый» (курсив мой); и второе — с подробным описанием астрономических и тригонометрических измерений всего побережья Финского залива от Риги до Санкт-Петербурга, подписанное капитанами инженера-ми Кайзером и Ван-дер-Вейде.
С 1794 г. — майор, состоял на окладе кабинетской суммы по 1000 рублей в год в Риге при строении шлюзов. 7 февраля 1797 г. в Совете при императорском дворе обсуждались проекты соединения рек Западной Двины и Днепра. Наряду с другими был пред-ставлен и проект Я.Я. Витте и Ван-дер-Вейде по расчистке и соеди-нению рек Невежи и Муссы (часть Березинской водной системы). 23 февраля 1797 г. проекты Березинской водной системы были утверждены императором Павлом
|
В 1798 г. — полковник инженерной экспедиции в Петропавловской инженерной команде. В 1799 г. — генерал-майор. Как и когда он попал на Тамань пока мне неизвестно. Но в Военно-историческом архиве я нашла сле-дующее: «инженер генерал-майор фон-дер-Вейде состоит в Фана-гории крепостным командиром ин-женерных команд и под смотрени-ем его производятся там, в Керчи и Еникале, крепостные работы и разное цивильное для гарнизона строение весьма на большую сумму и во многом количестве». Здесь же сказано, что, по Высочайшему повелению, он должен отбыть к порученной ему комиссии по соединению рек Дона и Волги каналом. По возвращении «по-прежнему иметь ему все производимые работы в ведении и распоряжении своем». Документ от 23 июля 1800 г. К сожалению, я пока не нашла нигде этого указа, но в архиве Департамента водяных коммуникаций есть документ, на-писанный на французском языке и занимающий семь страниц, «Некоторые мысли об учреждении искусственного водяного сообщения между Волгой и Доном» и комментарий на русском языке: «Интересно, ни автор, ни время неизвестны». Смею предположить, что автором этих «мыслей» был Герард фон-дер-Вейде. Думаю так потому, что если ему поручалась эта комиссия, значит, он занимался этим проектом.
В Высочайшем приказе от 11 сентября 1800 г. сказано: «Умершего инженер генерал-майора фон-дер-Вейде из списков исключить».
В апреле 1801 г. по указу ЕИВ вдове инженера генерал-майора Яко-бине фон-дер-Вейде, живущей в Риге, было назначено награждение еди-новременно из Кабинета в 500 рублей, а семье — пожизненная пенсия в 900 рублей из Кабинета ЕИВ. 24 июля 1801 г. вдова обратилась с письмом к императору, где она просит вернуть ей «ос-тавшийся после смерти мужа в Фанагории золотой с каменьями склаваж, который был привезен фон Гартингом в инженерную экс-пе-дицию, и который, по Высочайшему повелению покойного государя императора, отдан был обер-гоф-маршалу Нарышкину». Думаю, что речь идет об упомянутом выше браслете.
Из вышесказанного видно, что Герард умер в Фанагории (Тамань) скорее всего в августе 1800 г., т.к. в конце июля он был еще жив, а в начале сентября выходит указ о его исключении из списков как умершего.
Итак, Герард (Григорий) Ван-дер-Вейде (в русском варианте «фон-дер-Вейде») прослужил в Рос-сии 14 лет и умер, оставив жену и пятерых малолетних детей: троих сы-новей 14,10 и 5 лет, и двух дочерей 15 и 3-х лет. Все они остались в России, получили образование и слу-жили ей верой и правдой. Старший сын, Ян Хенрик — Иван Григорьевич (1786—1828), после окончания 2-го кадетского корпуса был участ-ником всех войн, начиная с 1806 г., т.е. сразу по окончании корпуса. В 1812 г. он был участником Бородинского сражения и был награжден орденом Св. Владимира 4 ст., золотым оружием «За храбрость» и повышен в чине. Был кавалером ордена Св. Георгия 4 ст. за войну на Кавказе. В 1828 г. погиб в чине полковника под Шумлой в Болгарии во время русско-турецкой вой-ны. Был женат, но потомства не оставил.
Два других сына были военными инженерами: Якоб Эдуард Корнелис — Яков Григорьевич (1790—1881), полковник, констру-ировал и строил понтоны и лодки с фурами для армии, за что был удостоен ордена Св. Владимира 4 ст., преподавал фортификацию в Артиллерийском училище. Вильгельм Фридрих Герхард — Василий Григорьевич (1795—1862), генерал-майор, строил крепости и береговые укрепления в СПб, Севастополе и других местах. Внук Михаил Яковлевич (1822—1886), ге-нерал-лейтенант в отставке, был военным воспитателем, заведующим Приготовительных классов Пажес-кого корпуса, преподавал французский язык в военных училищах, написал книгу «Правила войны На-полеона», как учебник по военной истории, подарил ее в 1853 г. цесаревичу. Книга хранилась в библиотеке Зимнего дворца, сейчас на-ходится в архиве Российской Федерации. Он изобрел подводный фонарь, который демонстрировался на первой Всероссийской мануфактур-ной выставке в Петербурге в 1870 г., за что получил орден Св. Владимира 4-й ст. Был кавалером не только Российских орденов, но и
иностранных.
Правнук Михаил Михайлович (1862—1937) — действительный статский советник, начальник Риж-ского торгового порта, морской офицер, контрадмирал (мой прадед); праправнук Анатолий Михайлович (1900—1937), работал инженером-строителем на Днепрогэсе в 1934 г. В 1936 г. в Одессе из подручных средств смастерил телевизор, о чем писала одесская газета «Моло-дая гвардия» 18 апреля 1936 г. («В гостях у телелюбителя»), а в 1937 г. был арестован и через месяц рас-стрелян как «враг народа». Сын его, 1920 г.р., погиб в Великую Отечественную войну.
Были они реформатского вероисповедания, и только в третьем поколении приняли православие, т.к. жены были русскими пра-вославными. Большинство захоро-нено на Волковском и Смоленском лютеранских кладбищах в Санкт-Пе-тербурге. Мужская линия пресеклась в 1949 г. со смертью моего деда Бориса Михайловича фон-дер-Вейде (1890—1949). Он был офицером царской армии, летчи-ком I-го авиационного отряда им. Алексеева в армии Врангеля в Кры-му, вынужден был эмигрировать в ноябре 1920 г. и умереть на чужбине (в Загребе). Последней, урож-денной фон-дер-Вейде, была моя ма-ма Ирина Борисовна фон-дер-Вейде (1917—1986).
Таким образом, род просущест-
вовал в России 200 лет. Если бы не революция в 1917 г. и репрессии в 1937 г., род бы продолжался и дал стране новых талантливых людей.
Предстоит еще узнать точную дату рождения Герарда; какое у него было образование, чем он за-нимался до приезда в Россию, точную дату его смерти, отчего он умер и где был захоронен.
Геннадий
ТРЕТЬЯКОВ
(г. Дзержинский
Московской области)
 Третьяков Геннадий Петрович родился в се-ле Лукашкин Яр Томс-кой области в 1960 го-ду. Детские и школь-ные годы провел на Алтае. В 1983 году окончил Московский авиационный институт. После окончания института работал в Федеральном центре двойных технологий «Союз» г. Дзержинска Московской области инженером-конструк-тором. В настоящее время работает в Москве, в компании-операторе сухопутной подвижной радиосвязи ООО «ОРС Первомайского ОВИ». Занимается проектированием, монтажом и техническим обслуживанием систем подвижной радиосвязи. Увлекается футболом, чтением художественной, исторической и мемуарной литературы. Генеалогией занимается более 30 лет. На серьезном уровне стал заниматься генеалогией после вступления в начале 2016 году в клуб «Найти свои корни», существующий в г. Дзержинский Московской области, который возглавляет Перепеченко Е.Д. Женат. Воспитывает двух дочерей.
Третьяков Геннадий Петрович родился в се-ле Лукашкин Яр Томс-кой области в 1960 го-ду. Детские и школь-ные годы провел на Алтае. В 1983 году окончил Московский авиационный институт. После окончания института работал в Федеральном центре двойных технологий «Союз» г. Дзержинска Московской области инженером-конструк-тором. В настоящее время работает в Москве, в компании-операторе сухопутной подвижной радиосвязи ООО «ОРС Первомайского ОВИ». Занимается проектированием, монтажом и техническим обслуживанием систем подвижной радиосвязи. Увлекается футболом, чтением художественной, исторической и мемуарной литературы. Генеалогией занимается более 30 лет. На серьезном уровне стал заниматься генеалогией после вступления в начале 2016 году в клуб «Найти свои корни», существующий в г. Дзержинский Московской области, который возглавляет Перепеченко Е.Д. Женат. Воспитывает двух дочерей.
ЗАГАДКА ФРЕСКИ
НА СТЕНЕ
Среди моих предков свое достойное место занимает Каурцев Ва-силий Николаевич — мой прадед по материнской линии. Это был вы-сокообразованный интеллигентный человек, отзывчивый на просьбы людей, старающийся им всегда помочь в трудную минуту.
Родился Василий Николаевич в 1865 году. Детство его прошло в селе Лещиново Нижнеломовс-кого уезда Пензенской губернии. Потом, по семейным преданиям, он учился в университете, из которого его исключили за участие в марксистских кружках и отправили в ссылку в Сибирь, в Томскую губернию, где он проживал на территории современного Алтайского края. Здесь Василий Нико-лаевич становится школьным учителем, преподает в Бастанской, Кашинской, Николаевской и других школах.
В 1902 году, в 37 лет, Василий Николаевич женился на 16-лет-ней красавице Тыртышниковой Та-тьяне Леонтьевне, которую он уви-дел и услышал среди певчих церковного хора. Супруги горячо по-любили друг друга. В их семье родилось десять детей. К сожалению, счастье не бывает вечным. В 1921 году Василий Николаевич, помогая больным людям, за-разился и умер от холеры. От хо-леры умирают также трое его де-тей. Оставшихся детей поднимала на ноги одна Татьяна Леонтьевна. Дети растут, учатся, получают образование и становятся; кто партийным деятелем, кто го-сударственным служащим, кто учи-телем. Младшая дочь Василия Николаевича — Ольга за свой многолетний труд в школе получила звание Заслуженного учителя шко-лы РСФСР. Сын Костя работал заведующим районо. Дочь Тамара становится преподавателем истории партии в институте. Старший сын Аполлон — заведующий отделом облисполкома. Сын Николай долгие годы занимал должность перво-го секретаря райкома партии. Дочь Наташа — бригадир в колхозе, а дочь Екатерина — домохозяйка: вырастила и воспитала девятерых детей.
Вот такая богатая история у се-
мьи моего прадеда Каурцева Ва-силия Николаевича. Зная, что мой прадед был необычным человеком (например, он знал несколько языков), мне всегда хотелось о нем узнать как можно больше: из какой он семьи, кто его родители, есть ли у него братья и сестры.
Понятно почему поиски сведений о прадеде привели меня на сайт Пензенского областного ар-хива [1] (посетить сам архив пока не получается). На сайте я с радостью обнаружил, что выложены анкеты сельскохозяйственной пере-писи 1917 года (огромное спасибо работникам архива). Опыт работы с анкетами сельскохозяйственной пе-реписи у меня уже был после посещения Алтайского краевого ар-хива летом этого года. Поэтому я представлял, какую большую ин-формацию можно получить из этих анкет.
И вот нахожу три анкеты с фамилиями Каурцев и Каурцева, причем в одной из них приведены сведения о семье священника Свя-тослава Николаевича Каурцева, про-живающего в селе Лещиново Пензенской губернии. Сразу отмечаю, что велика вероятность того, что этот священник не кто иной, как родной брат моего прадеда Каурцева Василия Николаевича. У обо-их совпадают отчества, родом они из одного села Лещиново, а разница в возрасте у них два—три года.
Поскольку Святослав Николаевич — священник, в селе Лещиново должна быть церковь. Продолжаю поиски в Интернете, на-хожу сведения об истории возникновения села Лещиново и уз-наю, что главной достопримечательностью села является церковь Рождества Христова. В ней должен был служить Святослав Николаевич.
Среди фотографий села Лещи-ново и местного храма, размещен-ных в Интернете, я увидел фотографию фрески [3], на которой, ско-рее всего, были написаны имена людей или принимавших участие в строительстве храма, или каким-то образом связанных с его историей. Фреска меня заинтересова-ла. На фотографии можно было прочесть отдельные имена и фамилии, но весь текст не читался из-за повреждений, которые были на фреске. У меня возникла мысль, что на фреске может быть упомянут кто-то из Каурцевых, т.к. они жили в этом селе, и к тому же, как я уже говорил, Святослав Николаевич Каурцев был священ-ником. Как я ни пытался прочитать текст фрески, для меня осталось загадкой: что же все-таки на ней написано?
Прошло несколько дней. Пытаюсь дополнительно найти материалы о храме и о селе Лещиново. И вот она удача: я нахожу творческую работу Кристины Алек-сеевны Рзянкиной, посвященную это-му селу [4]. Работа в 2013 г. принимала участие в конкурсе «Я тут был», который проводило ОАО «Ростелеком». Основной целью бы-ло исследование малоизвестных объ-ектов на территории Приволжского федерального округа (ПФО), которые представляют интерес в регионе; поиск новых направлений для туризма и отдыха, а также стимулирование творческой активности жителей ПФО. Основное условие конкурса: место не должно быть широко известным, разрекламиро-ванным, популярным среди туристов и путешественников.
В своей работе Рзянкина К.А. рассказывает об истории возникновения села Лещиново, о храме Рождества Христова. Строительство храма велось в течение вось-ми лет, с 1868 по 1876 год, приезжими мастерами из местного кирпича. Работа велась днем и ночью: «мастера работали днем, а местные рабочие-подсобники ночью готовили материал, поднимали его на леса. Средства для строительст-ва храма собирали выделенные для этого сельчане, отличавшиеся чест-ностью. Для них делали специальные ящики-копилки, с которыми они ходили по соседним губерниям и своим окрестностям, собирая деньги на храм» [4].
В 1933—34 годах церковь пы-
тались разрушить. С нее сбросили
колокола, кресты, были сож-жены иконы, пострадал внутренний интерьер. От полного разрушения здание церкви спасло ее дальнейшее использование в качестве склада для зерна.
С 1988 года началось восстано-
вление церкви. В настоящее время церковь действующая. Прихожана-ми церкви являются не только жи-тели села Лещиново, но и окрестных сел и деревень, и даже соседних районов.
В качестве иллюстраций в сво-ей творческой работе Рзянкина К.А. использует свои собственные фотографии, сделанные ею во вре-мя посещения села Лещиново. Я просматриваю фотографии и среди них вновь встречаю снимок фрески на стене храма Рождества Христова, надписи на которой я пытался про-честь, но так и не смог. За меня это сделала автор творческой работы. Вот что она пишет. «В интерьере сохранилась частично фреска, а затем она была восстановлена реставраторами:
«Сотрудники постройки сего
храма:
священник Николай Иванов Ка-урцев,
диакон Алексей Тимофеев Вы-шеславцев,
чтец Федор Семенов Тракцев,
ктитор Василий Савельев Конаков,
представ Иван Михайлов Шей-кинъ,
Иван Тимофеев Капыловъ,
Андрей Никитин Усачевъ.
С помощью всех прихожан.
Средний престол во имя Рождества Христова,
Правый, во имя Троицы,
Левый, во имя Покрова Святой Богородицы [4]».
Неужели то, что было загадкой для меня, удалось прочесть? В глаза бросается первая фамилия — Каурцев. Потом имя — Ни-колай Иванов. В голову сразу при-ходит, что это, должно быть, отец моего прадеда Василия Николаевича Каурцева и мой прапрадед. Испытываю огромную радость, что за короткий срок обрел двух родных мне людей, ранее мне не-известных: прапрадеда Каурцева Николая Ивановича и его родного сына Каурцева Святослава Ни-колаевича. Мысленно благодарю автора творческой работы, которая опубликовала текст с фрески на стене храма, реставраторов и того, кто первым прочитал этот текст.
Подтверждение родства с най-денными мною предками потребует поиска информации из других источников. Большая надежда, что найдутся метрические кни-ги с записями о рождении Василия Николаевича и Святослава Нико-лаевича Каурцевых, но есть большая уверенность, что это все-таки мои предки и что я, после подтверждения факта родства с ними, буду с гордостью рассказывать своим детям, что имя отца моего прадеда увековечено на фреске храма Рождества Христова в селе
Лещиново Пензенской области, а сам храм всегда будет памятью о нем для потомков.
Использованные Интернет-ресурсы:
- http://arhiv-pnz.ru/ Сайт Го-сударственного архива Пензенс-кой области.
- http://sobory.ru/article/?object=25499 Фотография храма Рож-дества Христова.
- http://russian-church.ru/photo.php?id=8802 Фото-графия фрески.
- http://www.events.volga.rt.ru/?id=998 Рзянкина Кристина Алексеевна. «Село Лещиново Ни-жнеломовского района, Пензенс-кой области». Творческая работа на конкурс «Я тут был» ОАО «Ростелеком», 2013 г.



О детях и для детей
ГАЛИНА ЗЕЛЕНКИНА
АНТОНИНА МАРКОВА
ВАЛЕНТИНА ВОЛЧКОВА
ЛЮДМИЛА ПЕНЬКОВА ВЛАДИМИР ГУДКОВ
ОЛЬГА АНДРЕЕВА
Галина ЗЕЛЕНКИНА
(г. Кодинск Красноярского края)

ДОБРАЯ КУКЛА МАША
Кукла Маша сидела на комоде между зайчиком и медвежонком, любимыми игрушками девочки, жившей когда-то в этом доме, и смотрела круглыми глазами голубого цвета на противоположную стену, где висел портрет юной девушки.
«Как быстро она выросла»,— подумала кукла, вглядываясь в знакомые черты лица своей бывшей хозяйки. И невдомек ей, что на портрете не хозяйка Верочка, а ее мать Татьяна Степановна в молодости. Сходство обличий всегда дезориентирует, и часто видимое принимается за желаемое. Вот если бы у куклы были мозги, и она могла бы мыслить, то поняла бы, что уже полтора десятка лет видит один и тот же портрет. И она бы тогда подумала о том, что случай и беда непредсказуемы и всегда представляются и появляются, когда их не ждешь. Так и произошло в ту роковую ночь, когда кукла Маша лишилась всего: рук, ног и искусственного разума. Сказать точнее, руки и ноги у нее были, но не двигались, а висели, как плети. И чип в голове у куклы был, но программа стерлась, и, кроме фразы: «Как быстро она выросла»,— ничего нельзя было извлечь из карты памяти. И все это произошло из-за болезни ее маленькой хозяйки Верочки.
Но вернемся к началу истории.
Когда в продаже появились первые куклы-биороботы, то Татьяна Степановна, не раздумывая, решила приобрести такую игрушку для младшей дочери Верочки, болезненного создания четырех лет от роду.
В назначенное покупательницей время куклу доставили из магазина. Рассыльный занес коробку в дом и поставил ее на большой круглый стол в гостиной.
— Вот и хорошо! — воскликнула Татьяна Степановна, глядя на рассыльного, распаковывающего доставленный товар.
— Пока никто не жаловался на наших кукол,— заметил тот.
— Это я к тому, что дочери нет дома. Когда она вернется с прогул-
ки, то обрадуется, увидев куклу во всей красе,— пояснила женщина.
Рассыльный освободил коробку от содержимого, разложив его на
столе, и протянул покупательнице документы на покупное изделие.
— Эту куклу зовут Машей, так написано в ее паспорте,— сказал он и вопросительно взглянул на Татьяну Степановну.
— Хорошее имя,— ответила та и отправилась на кухню, чтобы приготовить чай
Пока Татьяна Степановна хлопотала на кухне, рассыльный установил программный блок во встроенный внутри туловища куклы компьютер и проверил ее в действии.
— Вам какая кукла нужна? — обратился он к вернувшейся из кухни хозяйке.— У нас есть три варианта: Маша добрая, Маша умная и бабушка Маша.
— Бабушка у нас есть, да и на ум пока не жалуемся, а вот доброты иногда не хватает,— ответила Татьяна Степановна.
— Пусть будет Маша добрая,— сказал рассыльный и поставил куклу на пол.
Кукла повертела головой в разные стороны и, только убедившсь в том, что ее безопасности ничто не угрожает, поздоровалась с Татьяной Степановной.
— Здравствуй, Маша! — ответила та.— Добро пожаловать!
Слова Татьяны Степановны Маша восприняла буквально.
— У меня в программе заложено, чтобы добро всем дарить,— заметила кукла.
На что Татьяна Степановна улыбнулась и покачала головой. «Теперь придется следить за своими словами»,— подумала она.
Когда в сопровождении бабушки вернулась с прогулки Верочка, то кукла сначала подошла к девочке и протянула ей руки.
— Меня зовут Машей,— представилась она.— Я буду твоим дружочком.
— Дружочек — это хорошо! — обрадовалась девочка и протянула Маше руки.
Так они поздоровались. Затем кукла поздоровалась с Анной Сергеевной, бабушкой Веры.
— Пойдем со мной! Я хочу показать тебе нашу комнату,— предложила девочка кукле, и они пошли осматривать детскую комнату.
— Ну и дела! — только и смогла произнести Анна Сергеевна, впервые увидевшая куклу-биоробота воочию.
— То ли еще будет! — пообещала ей Татьяна Степановна.
И оказалась права.
Осень в этом году выдалась дождливой и ветреной. В тот день, когда Верочка с Анной Сергеевной отправились на прогулку в ближайший от дома парк, внезапно подул холодный ветер и пошел дождь со снегом. Прогулка была омрачена непогодой, и домой бабушка с внучкой вернулись в плохом настроении.
«Не заболеть бы»,— подумала Анна Сергеевна, развешивая для просушки в ванной свою и внучкину промокшую одежду.
Вечером у девочки повысилась температура, и Татьяна Степановна, уложив дочь в постель, вызвала врача на дом.
— Дружочек заболел! — сказала кукла и погладила девочке руку.— Не бойся, я тебя вылечу.
— А ты не обманешь? — спросила Верочка, с надеждой глядя на своего дружочка.
— Обман не заложен в программу общения,— ответила Маша добрая.— Я ведь биоробот, а не человек.
«Твои бы слова да Богу в уши»,— подумала Татьяна Степановна и погладила куклу по голове.
— Это я виновата! — несколько раз повторила Анна Сергеевна, прикладывая платочек к глазам, пытаясь скрыть слезы.
— Мама, успокойтесь! Никто вас не винит в болезни Верочки. Нельзя было предвидеть резкое ухудшение погоды, вы же не метеоролог,— сказала Татьяна Степановна.— Лучше достаньте из дорожной сумки мою аптечку. Я должна сделать Верочке укол. Похоже, что у нее пневмония.
— Ты врач, тебе виднее,— ответила Анна Сергеевна.
Врач скорой помощи подтвердил диагноз, поставленный Татьяной Степановной.
— Странная какая-то пневмония,— заметил он, осмотрев девочку.
— А что в ней странного? — спросила Анна Сергеевна.
Она и так себе места не находила, считая себя виновницей болезни Верочки, а тут еще врач с какими-то странностями.
— Быстротечная,— ответил врач,— кризиса ждать недолго. Звоните, если что.
С этими словами он вышел за дверь, не подумав о том, что его слова еще больше расстроили Анну Сергеевну. Радовало ее только то, что кукла Маша неотлучно находилась рядом с Верочкой и старалась помочь девочке одолеть болезнь. Кукла пела песенки, рассказывала веселые истории и танцевала какие-то немыслимые танцы, так как хорошо запомнила, что врач советовал отвлекать ребенка от грустных мыслей. Ее старания не пропали даром. Верочка смотрела на куклу во все глаза и улыбалась.
«Хватит ли доброты людской для спасения души человеческой?» — подумала кукла Маша и поняла, что не хватит, увидев, как девочка закрыла глаза и захрипела.
— Это кризис,— сказала Татьяна Степановна и почувствовала, как сердце ее сжимается от страха за дочь.
— Что вы делаете, когда нужна помощь? — обратилась кукла Маша к Анне Сергеевне.
— Мы молимся Богу о спасении,— ответила ей та.
«Я должна спасти дружочка»,— мысленно приказала себе кукла Маша и запустила программу самопожертвования.
Анна Сергеевна лишилась дара речи, когда увидела куклу Машу, стоящую на коленях с поднятыми вверх руками.
— Прошу тебя, мой создатель, отдать всю мою энергию Верочке для исцеления от болезни! — трижды произнесла кукла Маша и сломалась.
Анна Сергеевна перекрестилась три раза и подхватила куклу на руки.
— Маша тоже заболела? — услышала она голос внучки и обернулась на звук.
Увидев улыбающееся лицо дочери, Анна Сергеевна поняла, что кризис миновал.
— Это Маша спасла нашу Верочку,— сказала Анна Сергеевна и усадила сломанную куклу на комод.
— Причем здесь Маша? — удивилась Татьяна Степановна.— Это антибиотики помогли.
Но Анну Сергеевну не так-то легко было переубедить. Утром она вызвала мастера по ремонту биороботов. Мастер осмотрел куклу и вынес заключение, что кукла ремонту не подлежит.
— Закажите новую куклу,— предложил он Анне Сергеевне, но та отрицательно отнеслась к его предложению.
— Разве можно предавать дружочков? — услышал мастер в ответ и пожал плечами.
«Странная какая-то женщина»,— подумал он, покидая квартиру Анны Сергеевны.
«Неужели все такие бессердечные?» — в свою очередь подумала Анна Сергеевна, закрывая за мастером дверь.
Спустя некоторое время Татьяна Степановна по просьбе Верочки решила заказать новую куклу. На ее вопрос, есть ли еще в продаже добрые куклы Маши, представитель завода-изготовителя ответил, что эта модель из-за частых поломок снята с производства.
— Возьмите Машу умную,— предложил он.— Никаких претензий от покупателей не поступало.
Людмила ПЕНЬКОВА
 (г. Тула)
(г. Тула)
МОЕ СЕРДЕЧКО
Сердце мое — не просто насос,
Что двигает кровь по телу!
Оно найдет ответ на вопрос,
Даст знать, что и как я делаю.
Поможет улыбку другим дарить.
Улыбку, как солнечный лучик.
Дружбой научит меня дорожить
И к счастью подарит ключик.
В сердечке моем живет доброта —
Надеюсь: больших размеров!
Любовь моего родного кота
Послужит тому примером.
Дал я котенку сосиску вчера,
Хоть сам был, как волк, голодный.
Сердечко мое пропело: «УРА!
Ты поступил благородно!»
Нет, не хвастун я, чудом горжусь,
Тем, что родился с сердечком.
С ним равнодушным
стать не боюсь.
В сердце найдется словечко,
То, от которого мамы глаза
Вспыхнут счастливым сияньем!
Сердце умеет творить чудеса:
Радость дарить и вниманье.
— Ты человек с красивой
душою,—
Тем говорят, чье сердечко большое.
Дорогой друг, возможно, тебе еще не приходилось слышать слово интеллект. Поскольку интеллект очень важен для нас — людей, мы с тобой постараемся разобраться в том, что подразумевается под этим словом, какой смысл оно содержит. Ты знаешь, что все мы наделены разумом, умением мыслить. Способность каж-дого человека мыслить составляет ос-нову интеллекта. Интеллект обозначает: понимание, познание, то есть способность человека познавать, а так же достигать определенных ре-зультатов. Еще больше об интеллекте ты узнаешь из следующего стихотворения.
ИНТЕЛЛЕКТ
Все девчонки и мальчишки,
Полюбите с детства книжки!
Книги — путь в познанья храм —
Интеллект повысят вам!
Человек ты? Нет сомненья!
Интеллект с тобой с рожденья!
Ты растешь, и он растет,
Развиваясь, круглый год.
Интеллект, пусть каждый знает,
Наши знанья составляют.
Знанья жизни и культуры,
Гигиены с физкультурой
И умение общаться,
В трудный час не растеряться.
Интеллект, пусть каждый
знает,
Цель достигнуть помогает.
С чем сравним он?
С витамином!
Как бензин он для машины.
Он, как буквы алфавиту,
С ним пути в успех
открыты.
С ним ты мудр, умел и смел,
Повелитель добрых дел.
С интеллектом понимаешь,
Что себе ты помогаешь.
Быть успешным человеком
В ХХI нашем веке.
Маму выслушал сынишка,
И достал из шкафа книжку,
Чтобы время не терять,
Интеллект свой расширять.
ВОЛШЕБНИК МОЖЕТ ВСЕ
Мой дорогой друг! У тебя есть желание поиграть в прятки? Есть! Чудесно! Эта игра будет не совсем такой, к которой ты привык. Мы не станем прятаться, а потом искать друг друга. Я придумала для нас с тобой, как для настоящих волшебников, одно вкусненькое развлечение! Без воображения в нашей игре не обойтись. Какое счастье, что оно всегда с нами! Именно воображение и будет главным творцом волшебства! С нашей помощью, конечно.
Мы с тобой, мой творческий талантливый друг, будем искать в зиме лето, а в лете зиму. Ты удивлен? Не удивляйся! Скоро убедишься сам в том, что зима прячется в лето, а лето можно отыскать в зиме.
А пока я предлагаю тебе ответить на мой легкий вопрос:
— Сколько времен года ты знаешь?
— Правильно: четыре.
Еще, пожалуйста, перечисли названия времен года в том порядке,
в каком они сменяют друг дружку.
Если ты назвал: зима, весна, лето, осень, ты не ошибся. Я тебя хвалю. Если же ошибся, никаких огорчений! Волшебник может все, не забывай! Повтори несколько раз правильный ответ! Молодец!
Пора отправляться искать лето в снежной зиме! Ты готов, мой друг? Соединяйся с воображением! Соединился? Тогда вперед! Представь себе слегка морозный зимний денек. У тебя прекрасное настроение, потому что ты идешь кататься с горки, на чем — знаешь сам, да и это не так уж важно. Правда? Землю покрыл недавно выпавший снег. Он такой белый, как будто его специально подержали в растворе порошка для идеальной белизны. Солнце решило не скупиться и включило яркость на полную мощность. Белый снег стал ослепительным, он превратился в россыпь горящих бриллиантов. Каждая снежинка дарит нам свое очарование. Она сияет красным, оранжевым, желтым, зеленым, голубым, синим, фиолетовым цветом. Мой дорогой друг! Вспомни, где еще можно увидеть такую же семицветную гамму? Правильно: в радуге! Вот ты и нашел лето в зиме. Ура! Поздравляю! Ты красиво улыбаешься, Мне очень нравится! Помнишь: «От улыбки станет всем теплей»? А это значит, что в улыбке тоже находится лето.
Давай с тобой вместе подумаем, куда может спрятаться лето зимой и выдать себя своими признаками. Я уже знаю: в румянец на лице прохожих в морозную погоду, потому что румянец похож на летнюю зрелую ягоду «малину». Ты согласен со мной! Молодец! Еще: лето могло спрятаться в желтом, схожем по цвету с солнышком, оперении птички синички, а также — в красных перышках грудки снегиря или в солнечном лучике, который с радостью спешит к нам на планету Земля.
Мой необыкновенно изобретательный друг! Я сейчас тебе расскажу, где можно встретить лето независимо от времени года. Знай: в лучших человеческих качествах — доброте, милосердии, миролюбии, верности, уважительности.
Не забыл, мой энергичный и симпатичный друг, что ты шел кататься с ледяной горки? Включай воображение снова! Ты выбрал самую высокую горку и вот уже мчишься вниз быстрее ветра. Ты радостный, счастливый, смеешься от удовольствия! Пока ты поднимаешься на горку, чтобы прокатиться еще разок, а потом еще и еще, с горки на ледянке мчится, как бесстрашная девчонка, твоя любимая бабушка. Весело всем! Тепло, как летом! Ай да воображение! Спасибо ему!
Воображение — твой очень ценный и незаменимый помощник в достижении цели. К примеру, если ты думаешь, что не достаточно успешный или смелый, чаще представляй себя в своем воображении таким, каким бы тебе хотелось быть в реальности, и через время ты та-
ким станешь. Воображение не подведет.
А теперь, интересная творческая работа. Ты художник! Нарисуй красивую снежинку, а в ней — радугу. Она у нас лето, которое спряталось в зиме.
Чтобы ты не ошибался с расположением разноцветных полос в радуге, я даю тебе подсказку. Первая буква каждого слова подсказки соответствует первой букве каждого цвета радуги в правильной очередности. Подсказка: «Кролику очень жаль: забыл, где спрятал финики» Ты прекрасно справился с творческой работой! Приятно посмотреть! Молодец!
Мой дорогой друг! Мы с тобой отправляемся на поиски зимы, которая играет в прятки с летом. Ты уже готов путешествовать в воображении! Как тут снова не скажешь: «Молодец!» Представь себе, что ты попал на летний луг. Необыкновенное разнообразие луговых цветов радует твои глаза и сердце. Цветы приветствуют тебя своей красотой и неповторимостью. Голубоглазые колокольчики танцуют с ветром вальс. Низкорослый чабрец, как будто котенок, пригрелся на солнышке и тихонько поет радостную песенку. На желтеньких, похожих на маленькие меховые шарики, цветочках зверобоя сидит труженица пче-ла. Она так увлечена сбором нектара, что попросту нас не замечает. Рядом со зверобоем расположились красавицы ромашки. Их платья такие же белые, как платья у невест. Мой дорогой друг, внимание! Пора искать зиму! Правильно: она спряталась в лепестках ромашки. Мало того, во всех цветах, лепестки которых белого цвета, можно найти зиму. Белый цвет — цвет зимы. Пожелаем луговым цветам счастья и отправимся в другие края искать в лете зиму.
Как жарко! Лето все-таки! Очень хочу мороженое, а ты, мой не-утомимый друг? Ты тоже хочешь и целых два! Да хоть сто порций мороженого, самого разного, какое тебе больше всего по вкусу! Воображение сделает свое дело!
Какой ты быстрый, уже съел почти пол вафельного стаканчика и
не почувствовал, что в мороженом живет самая настоящая, только сладкая зима! Почувствовал! Молодец!
УТЕНОК ТИМ И ЕГО ВНУТРЕННЯЯ СИЛА
Дорогой друг! Я расскажу тебе об одном утенке. Нет, не о том гадком утенке, что превратился в сказке датского писателя Ганса Христиана Андерсена в прекрасного лебедя. У нашего утенка своя история. Слушай внимательно, мой чудесный друг.
Стоял солнечный летний денек. Молодая утка по имени Крякша стала мамой. У нее родились — вылупились из, обогретых ею своей заботой, яиц два забавных миленьких пушистеньких сыночка: Том и Тим. Мама утка была счастлива. Она любовалась своими малышами, а чтобы они выросли воспитанными, учила их правилам хорошего тона: общению между собой в своей семье и общению с другими жителями двора.
Утята каждое утро делали зарядку. Они хорошо кушали, играли на свежем воздухе, дружили с радостью и поэтому были здоровыми и быстро подрастали. Пришло время, и мама утка повела утят на пруд. Утки — водоплавающие птицы, они очень любят, покувыркаться в воде, подобно маленьким пароходикам, скользить по ее глади, оставляя за собой игривую водяную тропинку.
Утята впервые увидели настоящий пруд, о котором всегда с радостью рассказывала им мама утка. Они давно мечтали поплавать на нем и подружиться с местными жителями: желтоглазыми кувшинками, белыми лилиями, стрекозами — любительницами угоститься слад-ким нектаром водяных цветов, а так же с веселыми зелеными лягушатами, быстрыми забавными рыбками и стройными высокими камышами, обрамляющими берег пруда зеленым заборчиком.
На берегу пруда мама утка рассказала утятам, как необходимо себя вести на воде и вошла в воду первой. За ней, смешно переваливаясь с лапки на лапку, буквально побежал Том. Тим же оставался неподвижным. Как мама утка ни уговаривала его, утенок даже не решался намочить лапки. Чего страшился утенок Тим? Он боялся, что озорной лягушонок ни с того ни с сего укусит его за лапку. Да! Да! Бояться можно всего.
Страх любит обманывать, преувеличивать опасности, рисовать вся-
кие страшные картинки в нашем воображении. Самое главное, не верить ему, а доверять собственной силе. В тот момент Тим забыл, что у каждого и у него, конечно, есть своя внутренняя сила, о которой часто рассказывала ему мама. Эта внутренняя сила волшебная. Она непобедима, она всегда готова помочь, только надо верить в нее и не забывать о ней. Тим не вспомнил на берегу пруда о своей внутренней силе.
В тот день утенок Тим так и не решился войти в воду. Он смотрел
на плескавшего в живописном пруду, счастливого братишку и ему бы-ло грустно, обидно за себя, ему было плохо, хотелось плакать. На следующий день мама утка снова повела детей на пруд, и снова утенок отказался плавать. Страх радовался, и все потому, что Тим до сих пор еще не вспомнил о своей внутренней могучей силе. И на третий, и на четвертый день, все повторялось: перепуганный утенок сидел на берегу. А тем временем лягушонок и не собирался кусать утенка, ему такое не могло прийти в голову: он же не злая собака.
Наверное, утенок Тим еще долго оставался бы не водоплавающей птицей, если бы не произошел, полезный для него, случай.
Однажды, получив разрешение у своей мамы, утята пошли на пруд самостоятельно. Том, как всегда, плескался в пруду, радовался хорошей погоде, теплой водичке, солнышку и самому себе счастливому. Накупавшись вдоволь, он направился к берегу, но неожиданная боль сковала ему лапку: утенок, как это иногда бывает, увлеченный своими детскими шалостями, не заметил, как ударился о твердый ствол камыша. Плыть было невозможно. Том стал звать на помощь брата. Тим мгновенно почувствовал неудержимое желание помочь брату в тяжелой для него ситуации. Это желание — проявление доброты, любви к Тому, тут же победило страх. Тим сказал себе: «Я сильный, я все смогу!» и, не раздумывая, бросился в воду спасать брата. Совершенно забыв о страхе, у которого недавно был в плену, утенок перебирал лапками, как учила его мама.
Произошло чудо! Тим плыл быстро и уверенно. Поравнявшись с братом, он успокоил его и предложил опереться на свое крыло. Два утенка благополучно добрались до берега. Дома они рассказали о произошедшем случае маме. Утенок Тим был самым счастливым на белом свете, он светился радостью и от того напоминал солнышко.
Тим смог преодолеть страх, смог поверить в себя! Ему больше не казалось, что он маленький и трусливый. Он гордился собой! Тим чувствовал внутри себя силу. Эта волшебная, непобедимая сила освободила его от неуверенности в себе, тревоги, слабости и сделала его счастливым. Эта сила была его собственной. Тим понял, что забывать о своей внутренней силе нельзя. Ее не надо искать, за ней никуда не нужно ходить, она живет внутри каждого. Главное всегда помнить мудрое, важное и полезное жизненное правило: «Вера в собственные силы и умение полагаться на самого себя делает нас счастливыми и успешными». Радость Тима делили с ним его мама и брат. Теперь утенок Тим знает: чем побеждают страх.
 Антонина МАРКОВА
Антонина МАРКОВА
(г. Тюмень)
ОТКРЫТКА ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА
Накануне Нового года в доме затеяли большую уборку, и Кирюш-ка вызвался помогать маме. Она дала ему влажную тряпку и попросила навести порядок на папиной полке. Мальчик снял книги на пол, уселся поудобнее и принялся за дело. Работа уже подходила к концу, когда среди страниц одной из самых потрепанных книг мальчик заметил какую-то бумажку. Раскрыв книгу, он обнаружил старую, пожелтевшую от времени открытку.
Кирюшка взял ее в руки и стал с любопытством разглядывать изображение — между заснеженными деревьями был нарисован диковинный терем с высоким крыльцом. Из трубы поднимался легкий дымок, в узорчатых окошках горел приглушенный свет, который ок-рашивал большие голубые сугробы золотистыми блестками. Под рисунком мальчик прочел по складам: «Ве-ли-кий Ус-тюг». Открытка была не подписанной — на обороте в правом верхнем углу красовалась только яркая новогодняя марка.
Повертев находку в руках и решив, было, продолжить работу, Кирюшка вдруг заметил, что в комнате стало темно и прохладно. С потолка повалил густой пушистый снег, а мебель в комнате приняла очертания заиндевевших елей. Мальчик понял, что оказался в лесу, поразительно похожем на рисунок с открытки. Вдалеке виднелся сказочный терем, к которому вела узкая тропиночка. Ничего не оставалось делать, как отправиться вперед.
Снег мелодично поскрипывал под Кирюшкиными валеночками, прозрачные сосульки позванивали на застывших деревьях, и всюду разливалось необычное голубоватое сияние. Малыш не чувствовал ни испуга, ни удивления, как будто вышел на прогулку в соседний скверик.
Подойдя к крыльцу, он легко поднялся по ступенькам и дотронулся до расписной двери. Та сама собой распахнулась, пропуская мальчика в заманчивую глубину. Шагнув через порог, Кирюшка очутился в роскошном зале, стены которого были покрыты густым серебристым инеем, а на полу рассыпано великое множество елочных шаров разного размера и расцветки. Посредине зала стояла пушистая елка и покачивала мохнатыми лапами. Малыш догадался, что нужно украсить лесную красавицу, и начал развешивать блестящие шары на ветках. Елка, словно веселая девчонка, наклоняла каждую веточку, поворачиваясь к мальчику то одним, то другим боком. Вскоре все шары оказались на своих местах, и елка плавно закружилась, переливаясь разноцветными огоньками.
Вдруг с потолка, как легкие снежинки, стали одно за другим падать всевозможные письма и открытки. Их становилось все больше и больше — огромными бумажными сугробами они покрыли весь пол в зале. Кирюшка начал рассматривать конверты и обнаружил, что это письма Деду Морозу. Дети из разных уголков огромной страны рассказывали о том, что они мечтают получить в качестве новогоднего подарка. Мальчик начал раскладывать конверты с одинаковыми прось-бами в разные стопочки, которые тут же превращались в мячи и автомобили, конфеты и скакалки, куклы и медвежат, воздушные змеи и самолетики.
Зал наполнился волшебной музыкой, и разноцветные игрушки начали водить вокруг елки хоровод. Кирюшка тоже оказался в веселом круговороте. Он с интересом рассматривал поющие и танцующие игрушки и заметил, что у каждой из них в руках был красивый мешочек с яркой этикеткой, на которой крупными буквами было подписано — для Тани, для Сережи, для Светы и так далее. Как только смолкла музыка, игрушки начали со смехом и шутками помогать друг другу залезать в свой мешочек. Мальчик завязывал тесемки и укладывал готовые подарки в появлявшиеся, словно ниоткуда, легкие саночки, которые, наполнившись, тут же выезжали на улицу и растворялись в вечерних сумерках.
Вскоре зал опустел и затих. Кирюшка остался один и, утомленный, присел на низенькую скамеечку. Послышались таинственные шаги, и в зал вошел бородатый старик в красивой атласной шубе. В одной руке у него был ледяной посох, в другой — старая открытка из папиной книги. Он устало присел рядом с мальчиком.
— Здравствуй, Кирюшка, рад приветствовать тебя в моем родном городе Великом Устюге! — сказал старик и ласково улыбнулся растерявшемуся мальчику.
— Здравствуйте,— ответил мальчик,— А вы настоящий Дед Мороз?
— Неужели ты еще сомневаешься, малыш? Ты славно потрудился сегодня — нарядил самую главную елку, помог мне разобрать детские письма и отправить им новогодние подарки,— сказал старик,— Теперь настала твоя очередь. Вот только на своей открытке ты ничего не успел написать,— Дед Мороз повертел открытку перед глазами и продолжил,— Говори, не стесняйся — исполню любую просьбу!
Кирюшка немного подумал и спросил:
— А можно попросить подарок не для меня, а для мамы и папы? Они хоть и большие, но, я знаю, что они тоже ждут от Вас какого-нибудь сюрприза,— и малыш с надеждой заглянул в глаза старику.
— Что ж, я вижу, ты добрый мальчик,— улыбнулся Дед Мороз,— Я выполню твое пожелание. Только и у меня будет к тебе просьба — не рассказывай родителям, что побывал у меня в гостях и что видел, как происходят новогодние чудеса. Договорились?
С этими словами старик ударил об пол своим ледяным посохом. Закружилась метелица, бережно подхватила малыша и легко понесла из терема в ночную мглу…
Кирюшка проснулся в своей кроватке и никак не мог вспомнить, как очутился в ней. В рассветном полумраке он разглядел, что книги на папиной полке стоят ровными рядами, а в углу красуется наряженная елка. Мальчик тихо встал и заглянул под лохматые ветки — там лежали три одинаковых мешочка с яркими этикетками, на которых было написано крупными буквами — для мамы, для папы, для Кирюшки. А на самой нижней ветке висела старая, пожелтевшая открытка с надписью «Великий Устюг. С Новым годом!»
Владимир
ГУДКОВ
 (г. Тула)
(г. Тула)
СТРОЙКА
Это чудо — стройка!
Каменщики бойко
Здесь кладут рядами
В стену кирпичи!
Смелые монтажники
Пристегнулись к стойке —
Навесу работают,
Будто циркачи!
Краны-великаны,
Словно пеликаны,
Клювами хватают
Груз и тут, и там:
Поднимают краны
Арматуру, рамы!
«Пасть» открыл погрузчик,
Как гиппопотам!
Миксеры с бетоном
На заливку дома
Едут вереницей —
Этажи растут!
Дом сдадут досрочно —
Монолитный, прочный!
Ждет людей в квартирах
Счастье и уют!
***
Жил за печкою сверчок,
А за печь упал стручок.
Рад сверчок: горошек — смак,
А стручок — почти гамак!
Ловко обмотал сверчок
Паутиной гамачок.
Только натянул он нити,
Тут — паук: — А не хотите
Разрешения спросить?
— Я прошу меня простить…
Намотал я ваши нити…
Покачаться не хотите?
Сел паук, качается,
А сверчок печалится:
Он качаться тоже хочет —
Ждет, волнуется, стрекочет!
Призадумался сверчок —
Ай да хваткий паучок!
— Вы за дерзость извините:
Это верно — ваши нити,
Но стручок, позвольте, мой!
Не пора ли вам домой?
— Обижаешь! Вон ты как?!
Да возьми ты свой гамак —
Паутины не получишь!
— Да по мне так даже лучше:
В гамаке я буду спать.
Да, отличная кровать!
И сверчок залез в стручок,
Потянулся и — молчок.
«Нахамил — поспи пока…» —
Раззадорил паука.
— «Я усатого детину
Замотаю в паутину!»
Горячо за дело взялся,
Да чуток перестарался.
Смотрит из угла метла:
Вся изба чиста, светла,
Только портит всю картину
Из-за печки — паутина!
Тут метла прогнула спину —
И смахнула паутину.
………
Вот сверчок откинул створку:
— Тут же сделали уборку!
Стало и светлей, и чище.
Где же вредный паучище?
А паук идет, рыдает
И каргу-метлу ругает:
— Отхлестала, не прилечь —
Замела вчистую печь!
Паука зовет сверчок:
— Полезай ко мне в стручок!
Выйдешь скоро в лучшем виде —
В тесноте, да не в обиде!
ВЕРФЬ
Я мечтал, не скрою,
и пришел сюда —
посмотреть, как строят
водные суда.
Искры, лязг и скрежет —
здесь тугой металл
гнут, кроят и режут,
чтоб он судном стал.
Кран опустит ровный
толстый лист стальной:
на вальцах огромных
станет он кормой!
Фейерверком искры —
сварка там и тут,
что петарды выстрел:
кораблю — салют!
Пароход со стапелей
в сине море — плюх,
будто бы поставили
на воду утюг.
Гладит ситец синий
с севера на юг,
ровно и красиво,
пароход — утюг!
Море, ведь, не лужа:
волны распрямлять —
не белье утюжить,
а морскую гладь!
***
Смотрит солнышко в окошко,
а я спать хочу...
— Подожди еще немножко! —
я ему шепчу.
Зайчик солнечный усами
нос щекочет мне —
А глаза открылись сами:
Я любуюсь небесами,
солнышком в окне!
Валентина ВОЛЧКОВА
 (г. Серпухов Московской области)
(г. Серпухов Московской области)
12 лет. МОУ СОШ №1 г. Серпухов, 7 «В» класс.
ДЬЮМБА КИНОШНАЯ
Обычно, когда в фильме встречаются «киноляпы», в первую очередь осуждают режиссера, что недоглядел. И никогда никто не задумывался, что режиссер может быть совсем ни при чем… или почти…
Однажды случилась такая история. Пришел один известный режиссер после съемок домой, принес с собой новый фильм на пленке и стал его просматривать. Когда просмотрел, оставил его на столе в незакрытой коробке и ушел по важным делам.
А в это время из-за шкафа вылез маленький пушистый серый комочек, осторожно подошел к столу, взобрался на него по скатерти и начал рассматривать пленку. Это была Дьюмба домашняя. Такая глазастенькая пушинка живет и у тебя дома. Она живет в темных углах квартиры и питается крошками со стола. Она ничего специально не портит, но может ненароком совершить хулиганство вроде таких: стащить интересную штучку или нечаянно порвать карман куртки.
Процесс просмотра пленки оказался для Дьюмбы чрезвычайно интересным, но она была так мала, что не сумела просмотреть ее всю, поэто-
му вырезала наиболее понравившиеся кадры и собралась убежать.
В это время вошел режиссер. Дьюмба испугалась и спряталась в коробку с пленкой. Режиссер взял фильм и ушел в студию. Там Дьюмбе удалось незаметно выбраться наружу. Коллеги режиссера заметили, что пленка порвана, склеили ее, но недостающие кадры не нашли, и из-за этого возник первый «киноляп», который позже заметили и с энтузиазмом обсуждали зрители.
А что же стало с виновницей всего случившегося? Дьюмба, прихватившая с собой пленку, не смогла вернуться домой и осталась на студии. Она и сейчас там живет. Сильно не шалит, но коллекцию понравившихся кадров пополняет регулярно. Еще Дьюмба обожает костюмерную и проводит там много времени. Она не очень осторожна и, бывает, разбрасывает украшения, пачкает костюмы и путает бирки на них.
Люди к этому уже привыкли и говорят, что на киностудии завелся домовой, портящий отснятый материал и личные вещи, путающий провода и тексты главных героев. А это просто Дьюмба, любопытная и веселая.
ДЬЮМБА МУЗЕЙНАЯ
Уважаемые посетители! Сейчас музей закроется и все разойдутся по домам. Но залы недолго будут пустыми. Скоро маленькие Дьюмбочки выберутся из своих укромных уголков и примутся за работу. Кто же они такие и как попали сюда? Я вам сейчас расскажу.
Дьюмба — это такая маленькая пушистая штучка на тоненьких коротких ножках. Она живет в каждом доме и следит за чистотой и порядком. У Дьюмбы большие выпуклые глаза. Мы не замечаем Дьюм-бу, так как она ловко прячется.
Вот как наша Дьюмбочка появилась в музее. Сначала она жила в обычной квартире, но однажды хозяева принесли ее в сумке на экскурсию, когда она там нечаянно заснула. Попав в незнакомое место, она решила исследовать его. Чистота и красота в залах сразу понравились Дьюмбе, и она решила остаться там навсегда.
Когда наступает ночь, Дьюмба музейная вылезает из уголка, в котором пряталась и начинает ежевечерний обход. Проверяет, все ли в порядке. Если ей попадется мусор, оставленный посетителями, она тут же его уберет и спрячет в свою собственную коллекцию интересных вещей. А еще Дьюмба обожает помогать работникам музея. Обя-
зательно протрет картину или высоко висящую люстру.
Если Вы заметите, что кусочки паркета в некоторых местах заменены на новые, то знайте, что это Дьюмбы отремонтировали старый паркет.
Так же Дьюмба очень любит разные механизмы, особенно старые музейные часы. Ей очень нравится, как они тикают, и она чистит в них шестеренки, чтобы часы не сломались. Только когда они начинают бить, Дьюмба убегает и прячется, потому что боится громких звуков.
Сама Дьюмба тщательно вытирает свою шерстку и ножки, чтобы не испачкать любимые экспонаты. Больше всего ей нравятся минералы и драгоценные камни, потому что они яркие, блестящие, в них можно увидеть свое отражение, как в зеркале, и среди них очень интересно прятаться.
Она следит за поведением посетителей. Если мальчишки начинают шалить, щиплет их за коленки, чтобы они случайно не повредили экспонаты.
В музее может быть не одна, а две, три и больше Дьюмбочек. Одни из них случайно попали в музей, как наша. Другие остались там еще с тех времен, когда музей был жилым домом. Они обитают в разных залах в зависимости от того, что им больше нравится. Например, наша знакомая Дьюмбочка очень любит картины и поэтому поселилась в зале, где висят работы Шишкина. Живет она за одной этих картин. Ей нравятся большие деревья. Она, бывает, воображает, как хорошо было бы поселиться среди переплетения ветвей.
По вечерам все Дьюмбочки собираются вместе, общаются, помогают не успевшей прибраться подружке. Гуляют по залам, устраивают собственные экскурсии.
Если вы услышали какой-то шорох, скрип паркета или вдруг заметили промелькнувшую тень, не пугайтесь. Никакое это не привидение. Просто маленькая Дьюмбочка делает очередной обход.
ДЬЮМБА ПОДЪЕЛОЧНАЯ (ИЛИ НОВОГОДНЯЯ)
Вот-вот наступит твой любимый праздник — Новый год! Мама накроет праздничный стол. Папа принесет большую пушистую елку, под которую Дед Мороз положит в новогоднюю ночь подарки.
Но утром 1 января ты сможешь обнаружить там не только их, но и … Дьюмбу! Кто же это, и как же она может там появиться?
Дело в том, что в лесу в каждой елочке живет Дьюмба Подъелочная. Это такая пушистенькая штучка размером с кулачок на длинных узких черненьких ножках. Когда елочку срубают, Дьюмбочка крепко хватается за ее нижние ветви и едет на ней в город. Она прячется глубоко среди ветвей елочки. Дьюмба белая — с запутавшимися в ее шерсти иголочками, и очень пушистая, чтобы не замерзнуть в холода. Она похожа на снежок, которого на елочках зимой очень много, и поэтому в лесу незаметна.
Но вот елку покупают на базаре и несут домой. Дьюмба сильнее прижимается к ветвям — боится. Елку устанавливают в большой комнате, и ты бежишь украшать ее разноцветными игрушками. Они очень нравятся Дьюмбе. Она присматривает самую красивую и начинает на ней качаться…
И вот все садятся за праздничный стол, и приходит Дед Мороз. Он кладет под елку подарки. Дьюмбочка тоже не остается без подарка. Специально для нее Дед Мороз приносит красные шапку и шарф. Дьюмба надевает их и любуется на себя в зеркальный шарик.
Наступает ночь, все ложатся спать, а у Дьюмбы праздник продолжается. Она пробует еду со стола, прыгает по елочке с другими Дьюмбами, которые живут у тебя в комнате (с Дьюмбой Обыкновенной, Симметричной, Нестандартной и т.д.), поэтому порой с елки осыпаются иголки.
Но вот новогодние праздники заканчиваются и елочку уносят. Вместе с ней уходит и Дьюмба. Но не грусти. Она будет жить и дальше в своей елочке и, может быть, на следующий Новый год к тебе в гости придет та же самая Дьюмбочка с подарками для тебя.
ДЬЮМБА СИНЯЯ, ПУШИСТАЯ
Бывает, в ванной пропадает мыло, мочалка, а может, гель для душа или шампунь. А еще иногда полна мыльница воды и мыло в ней плавает. И, когда включают стиральную машинку, в раковине начинает урчать.
У взрослых, разумеется, находятся свои «научные» объяснения. Например: в мыльнице вода потому, что дети шалили и в мыльницу ее налили. А в раковине шумит, это потому что вода бежит по трубам.
Но на самом деле никакая это не вода и тем более не дети. А просто маленькая пушистенькая Дьюмбочка, которая живет в ванной.
А кто же она такая? А вот кто.
Дьюмбочка синяя — это маленькая пушистая штука бело-голубого цвета на коротеньких тонких ножках. Глаза у Дьюмбы боль-шие, выпуклые, выразительные, голубовато-синие, как и она сама.
Живет такая Дьюмбочка в ванной комнате (кстати, еще одно ее название — ванная Дьюмба). Сама она живет под раковиной (чаще — под ванной) и питается сливочным маслом, которое украдкой слизывает с бутербродов. Дьюмбяток своих она прячет в сифоне, принося им крошки сыра со стола. А сама Дьюмбочка такая чистюля и модница! «Чистота — залог здоровья» точно ее девиз по жизни. Всю свою жизнь она связывает с мылом, мочалкой и тепленькой водичкой (прохладную она не любит — чихает).
Свое утро Дьюмба начинает с того, что вылезает из-под ванны, включает кран и настраивает его на свою любимую температуру воды. После этого спускается в раковину и начинает нежиться под бьющей из крана струйкой. Под «душем» Дьюмбочка напевает свою любимую песенку и зовет своих Дьюмбяток. Дьюмбятки оравой вылезают из сифона и присоединяются к своей маме. Потом забираются в мыльницу и мокрой шерсткой начинают тереться о мыло. Теперь-то вам стало ясно, откуда в мыльнице появляется вода? Во время намыливания Дьюмбочки играют, надувая получившиеся пузырьки. Мама Дьюмба кормит Дьюмбочек только что принесенным маслом. Малыши смывают с себя мыло и пену и еще долго играют в ванной комнате, бегая и прячась за мочалки, гели, шампуни, мыльницы. После такой игры немудрено найти в ванной разлитый шампунь и валяющуюся на полу мочалку, а порою эти вещи вообще пропадают, потому что маленькие Дьюмбочки понравившиеся вещицы утаскивают к себе под ванну.
А еще, когда Дьюмбятки забывают смыть с себя мыло и залезают в сифон, их шерстка распушается. Это задерживает воду в трубе. Вот раковина и засоряется. Когда взрослые, считая, что труба засорилась, начинают прочищать ее вантузом, а он издает страшные звуки, Дьюмбятки их пугаются, прижимаются к стенке сифона и вода сливается в трубу.
КТО ТАКАЯ ДЬЮМБА КАНЦЕЛЯРСКАЯ
Знаешь, почему у тебя пропадает бумага и письменные принадлежности? Их забирает Дьюмба.
Дьюмба — это такая маленькая пушистая штучка на четырех узких ножках, которая живет в каждом доме в каждом темном уголке.
Вообще-то Дьюмб много, но сегодня я расскажу вам про Канцелярскую.
Дьюмба Канцелярская отличается от других Дьюмб маленькими размерами. Она всего-навсего с твой кулачок. Сама она пушистая и серая от книжной пыли, потому что все свое свободное время проводит на полке с книжками, альбомами и журналами.
Зачем ей это надо?
А затем, что в самых неприбранных уголках шкафчика она находит интересные бумажки, читает их и берет себе. Еще из старых рваных листочков она делает себе домик-шалаш.
Она берет разноцветные карандаши и ручки просто так. Она ими любуется.
Многие думают, что питается она также бумагой, однако это все неправда. Ежедневный рацион питания Канцелярской составляет ма-сло сливочное большими порциями, сыр дырчатый и колбаса.
Как отличить ее от остальных? У нее длинные узкие ножки, чтобы протискиваться между книгами, залезать в разбросанные листки бумаги и карандашницу. Заметить ее будет трудно. А если не хочешь, чтобы твои любимые рисунки, ручки с карандашами пропали (их заберет Дьюмба), почаще прибирайте в шкафу, где сразу найдете все пропажи. Она испугается, что ты обнаружишь ее домик, и все отдаст.
Маленькие советы:
1. Прячь в холодильник сливочное масло, сыр и колбасу;
2. Если, прибираясь в шкафу, начинаешь находить свои пропажи, продолжай уборку активнее, тогда обнаружится все (возможно, даже Дьюмба).
Как убедиться, что она существует?
Оставь в кухне на столе рваные листки бумаги или сливочное масло. Наутро проверь. Если они пропали, то Дьюмба живет у тебя в квартире. Возможно, кстати, что масло взяла Дьюмба Обыкновенная, живущая за кухонной плитой (она тоже любит масло), но о ней я расскажу в следующий раз!
Ольга
АНДРЕЕВА
 (г. Тула)
(г. Тула)
Родилась в г. Туле 17. 11. 1959 г. Окончила Механический факуль-тет Тульского Политехнического института в 1982 г.. С 1987 г. преподает. Обучала детей лепке. С 1997 г. — учитель в школе изобразительного искусства «Морозко» в г. Москве. Занимается возрождением тульской игрушки. Имеет звание народного мастера России. Член Союза художников России.
ХОЗЯЮШКА
Как у нашей у Катюшки
За столом сидят игрушки:
Зайцы, мишки, белочки,
На столе — тарелочки,
Расписные кружки,
Вафельки и сушки.
Катя кружится, хлопочет,
Накормить зверюшек хочет.
Но не пьют зверюшки
Из красивой кружки,
Не едят с тарелочки
Мишки, зайцы, белочки.
Что же делать, как же быть?
Надо кашу подсластить!
В ЖАРКИЙ
ПОЛДЕНЬ
Солнце греет мне окошко,
Моет лапкой носик кошка,
На забор взлетел петух,
На дуде дудит пастух,
Птичка села на шесток,
Пчелка сделала виток…
Только я один лежу,
На жару не выхожу.
Лежа на кровати,
Хорошо мне в хате!
ВЕСНА
Природа оживает —
Окончен зимний сон.
Капели отмывают
Заснеженный перрон,
А поезд вдаль несется
Под птичий перезвон
И с неба радость льется
К нам в голубой вагон!
Я ПОСТРОИЛ
ДОМ ЦВЕТНОЙ
Я построил дом цветной —
Деревянный и смешной.
На окошках — ставенки,
Вместо крыши — валенки,
Из линеечек чердак,
Я, поверь мне, не чудак,
Дом широкий, без двери,—
Заходи и посмотри:
Много в доме новизны —
Деревянных три стены
И одна — из тюбиков,
Не хватило кубиков…
ПАРУСНИК РЕЗНОЙ
Солнышко алеет,
Ветер за спиной,
В небесах белеет
Парусник резной.
Вот бежит дорога
К замку королей,
На пути же много
Белых лошадей,
И несут драконы
Странные цветы
К храмам, где иконы
Дивной красоты.
Это королевство,
Знаю, надо мной,
Ведь плывет по небу
Парусник резной!
ПРО МЫШЬ, АМБАР И БОЛТЛИВЫЙ ЯЗЫК
В одной Богом забытой деревеньке, где народ жил сытно и дружно, стоял добротный купеческий двор. Куры там важно по двору выхаживали, коровы сытые в хлеву сено жевали, да молока хозяевам вволю давали. Амбар там был доверху зерном засыпан, мешкам с мукой числа не было.
Как повезло одинокой маленькой серенькой Мышке, случайно забредшей в этот рай! И стала Мышь жить, да сладко поживать в амбаре. Тепло, сухо, еды вволю, живи себе да радуйся. А тут еще и жених ей сыскался: красивый и статный. И вскружило счастье голову маленькой Мышке, да так, что решила она им — своим счастьем с подружками поделиться. Пригласила их на свою свадьбу.
Прибежали подружки и на Мышкино добро набросились. Заметил хозяин мышиную возню. Осмотрел амбар. Все щели и дыры заколо-
тил, а в амбар большого жирного кота пожить отправил. Так и закончилась сладкая Мышкина жизнь.
Вот и весь сказ — не болтай лишнего.
ПРО ДЕДА, БАБУ И ИХ КОЗУ КАТЬКУ
Жили себе, не тужили, нужды и беды не ведая, в стародавние времена, на краю Земли, в маленькой деревушке, что затерялась средь лесов еловых, дед и баба, а детей не нажили. Вот только козу Катьку и лелеяли, и холили. Ходили за ней, как за дитем малым. Коза молоко давала, а из шерсти ее старуха носки да варежки на зиму вязала. Навяжет носков, да на базар несет. Вот так, где грибков из леса на зиму засолят, где картошечку с огорода соберут, где молочка продадут. Тем и жили — не тужили.
Уж очень они свою Катьку любили. Но вот, как гром средь ясного неба, беда в двери постучалась. Ну, беда пришла — отворяй ворота. Короче, померла Катька. Закручинились дед да баба, да делать нечего, хоронить надо. Но дед тут возьми, да и скажи:
— А что, старуха, ежели на память шкуру оставить?
Подумали, покумекали и решили оставить. Повесили шкуру на заборе, а сами по хозяйству хлопочут. Дело к вечеру клонится, а шкура все на заборе сушится. Солнышко ее золотит, греет. Снял дед шкуру, да возьми ее и тряхни, а из нее монеты золотые посыпались. Удивился дед, еще раз тряхнул, опять монеты на землю покатились. Понял дед, в чем дело, схватил шкуру в охапку и со всех ног в избу бежать ринулся. С порога старуху кличет, диво дивное торопится ей показать, а старуха-то от такого чуда чуть чувств не лишилась.
Обрадовались старики, ну, вот старость в тепле и в достатке доживать будем. Живут себе, ни нужды, ни печали не ведают. Бабка наряды каждый день меняет. А как-то раз по воду пошла, а соседка подкараулила ее и спрашивает:
— Скажи, кума, откуда такие наряды?
Мялась, мялась старуха, да уж больно похвастать охота.
— Ладно,— говорит,— скажу, а лучше покажу. Пойдем ко мне, увидишь то, чего в жизни не видывала.
Дед-то как раз на рыбалку отлучился. Привела бабка соседку водвор, шкуру вытащила, на забор повесила и давай ее трясти, а деньги из нее, как дождь из тучи сыплются и сыплются. А бабка, знай, шкуру колотит и радуется. Била, била шкуру да добила ее, горемыку, до дыр. И тут монетки-то сыпаться перестали. Заволновалась старуха. Бьет, колотит шкуру, а та висит себе на заборе, как висела. Завыла старуха, разрыдалася.
Вот и весь сказ — не хвастай.
ЖАДНАЯ БАБА
У жадной, прежадной старухи, да такой жадной, что свет таких не видывал, была корова. Буренкою звали. И жила с ней старуха на краю села, что затерялось на бескрайних просторах Руси-матушки, Старухина корова была дородна. Молоко жирное и вкусное давала — по ведру в день. Старуха из молока сыр, масло, творог делала — да на базаре свой нехитрый товар продавала. Деньжатки-то у нее водились, да в карманах сладостно позвякивали. Да вот беда — уж больно старуха жадна была. Задумалась она, как бы так случилось, чтоб барышу у нее более стало.
Думала она думала, да и надумала. Корова-то моя за один день одно ведро молока дает. Что если ее дня три не доить. Глядишь, три ведра за один день даст. Надумала и сделала. Два дня старуха корову не доила, а на третий принесла три ведра, начала свою Буренку доить, да только полведра и надоила. Сколько ни трудилась, ничего путного из этого не вышло.
Молоко-то у Буренки перегорело.
Сказка вся, да в ней намек, ну а жадинам урок.




ПЕСНИ
ЛЮДМИЛА ПЕНЬКОВА
ИРИНА ШУЛУПОВА
 Ирина Шулупова родилась в г. Туле. Окончила колледж искусств им. А. Даргомыжского и Тульский государственный университет им. Л.Н. Толстого, руководитель детского музыкального ансамбля «Колокольчик» — лауреата Всероссийских и Международных детских музыкальных конкурсов. Пишет песни для детей и взрослых, дипломант городского конкурса «Песни о Туле — 2016».
Ирина Шулупова родилась в г. Туле. Окончила колледж искусств им. А. Даргомыжского и Тульский государственный университет им. Л.Н. Толстого, руководитель детского музыкального ансамбля «Колокольчик» — лауреата Всероссийских и Международных детских музыкальных конкурсов. Пишет песни для детей и взрослых, дипломант городского конкурса «Песни о Туле — 2016».
ХОЧУ СОБАКУ!
Слова Л. Пеньковой Музыка И. Шулуповой

ХОЧУ СОБАКУ

МЛАДШАЯ СЕСТРА
Слова Л. Пеньковой Музыка И. Шулуповой

МЛАДШАЯ СЕСТРА

СОДЕРЖАНИЕ
ДУХОВНАЯ СТРАНИЦА
Святейший Патриарх КИРИЛЛ. Слово на церемонии вручения
Патриаршей литературной премии..................................................................5
ПРОЗА
Лариса СЕМЕНИЩЕНКОВА (г. Брянск).....................................................12
Анна МАРТИНА (г. Серпухов Московской области).................................17
Ирина КЕДРОВА (г. Москва)........................................................................24
Евгений СКОБЛОВ (г. Москва)....................................................................29
Алексей ЯШИН (г. Тула)...............................................................................34
Людмила АЛТУНИНА (г. Тула)...................................................................39
Сергей КРЕСТЬЯНКИН (г. Тула).................................................................43
Ирина НАЗАРОВА (г. Серпухов Московской области).............................50
Рагим МУСАЕВ (г. Тула)...............................................................................55
Сергей ЛЕБЕДЕВ (г. Тольятти Самарской обл.).........................................60
Кира КРЕСТЬЯНКИНА (г. Тула)..................................................................69
Ирина АНДРЕЕВА (г. Тюмень).....................................................................76
Татьяна РОГОЖИНА (г. Тула)......................................................................82
Геннадий МАРКИН (г. Щекино Тульской области)...................................85
Ольга БОРИСОВА (г. Самара)......................................................................89
Нина ГАВРИКОВА (г. Сокол Вологодской области).................................93
Рудольф АРТАМОНОВ (г. Москва).............................................................96
Вячеслав МИХАЙЛОВ (г. Москва).............................................................101
Николай МАКАРОВ (г. Тула)......................................................................105
Владимир ПЛОТНИКОВ (г. Самара)..........................................................115
Андрей МОЖАЕВ (г. Москва).....................................................................121
Игорь КАРЛОВ (г. Эль-Кувейт, Государство Кувейт)..............................125
Галина МАМЫКО (г. Симферополь, Крым)..............................................129
Елена СТРИЖАК (г. Полоцк Витебской обл. Белоруссии)......................139
Николай ТИМОХИН (г. Семипалатинск, Казахстан)...............................144
Ольга КАРАГОДИНА (г. Москва)...............................................................148
Ирина НИКОЛЬСКАЯ (г. Алексин Тульской области)............................150
ПОЭЗИЯ
Светлана МАКАШОВА (г. Самара)............................................................156
Валерий САВОСТЬЯНОВ (г. Тула)............................................................157
Сергей НИКУЛОВ (г. Тула).........................................................................161
Владимир РЕЗЦОВ (г. Тула)........................................................................163
Игорь МЕЛЬНИКОВ (г. Тула).....................................................................165
Валерий АКИМОВ (г. Нижневартовск Ханты-Мансийского АО)...........166
Олег СЕВРЮКОВ (г. Москва).....................................................................168
Антонина МАРКОВА (г. Тюмень)...............................................................170
Ольга АРТЕМОВА (п. Медвенка Курской обл.)........................................172
Анна МИКАЕВА (г. Самара)........................................................................174
Галина ЗЕЛЕНКИНА (г. Кодинск Красноярского края)...........................176
Наталья АРТЕМОВА (п. Медвенка Курской обл.)....................................178
Вячеслав АЛТУНИН (г. Тула).....................................................................180
Яков ШАФРАН (г. Тула)..............................................................................188
Елена ПОЛЕТАЕВА (г. Самара)..................................................................190
Нина ГАВРИКОВА (г. Сокол Вологодской обл.)......................................192
Сергей РЕДКОВ (г. Тула).............................................................................193
Елизавета БАРАНОВА (г. Тула)..................................................................194
Людмила СЕНИНА (г. Тула)........................................................................196
Олеся МАМАТКУЛОВА (г. Алексин Тульской обл.)...............................199
Галина ЛЯЛИНА (г. Донской Тульской обл.)............................................200
Анна БАРСОВА (г. Екатеринбург)..............................................................201
Натали СИЛАЕВА ( г. Серпухов Московской обл.)..................................202
Наталья ШЕСТАКОВА (г. Брянск)..............................................................203
Николай ТИМОХИН (г. Семипалатинск, Казахстан)................................205
Кирилл ПРУДКИЙ (г. Тула).........................................................................206
Владимир ГУДКОВ (г. Тула)........................................................................206
Ольга БОРИСОВА (г. Самара)......................................................................207
Елена СЕМЕНОВА (г. Москва).....................................................................208
Любовь САМОЙЛЕНКО (г. Тула)................................................................209
Валерий ДЕМИДОВ (г. Тула)........................................................................211
Валерий ВИНОГРАДОВ (Алексин Тульской обл.).....................................212
Алена АЛЕЩЕНКОВА (г. Москва)...............................................................213
Ольга ПОНОМАРЕВА-ШАХОВСКАЯ (г. Москва)...................................213
Ирина НАЗАРОВА (г. Серпухов Московской обл.)....................................215
Людмила ПЕНЬКОВА (г. Тула)....................................................................216
Сергей ЛЕБЕДЕВ (г. Тольятти Самарской обл.).........................................217
Татьяна ШЕЛЕПИНА (г. Алексин Тульской обл.)......................................217
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, Литературная
ПУБЛИЦИСТИКА и критика, РЕЦЕНЗИИ
Валерий МАСЛОВ (г. Тула)..........................................................................221
Сергей ОДИНОКОВ (г. Тула)........................................................................227
Рудольф АРТАМОНОВ (г. Москва).............................................................233
ПУБЛИЦИСТИКА
Сергей ОВЧИННИКОВ (г. Щекино Тульской обл.)...................................241
Людмила АЛТУНИНА (г. Тула)....................................................................250
Галина КЛИНКОВА (Волгограская область)..............................................263
Рубрика: Российское родословие «Найти свои корни»
Нина ШАЛАГИНА (г. Одесса, Украина).....................................................268
Елена ВЕЙДЕ-ВЯЛОВА (г. Москва)............................................................277
Геннадий ТРЕТЬЯКОВ (г. Дзержинский Московской обл.)......................285
О детях и для детей
Галина ЗЕЛЕНКИНА (г. Кодинск Красноярского края)............................292
Людмила ПЕНЬКОВА (г. Тула)....................................................................296
Антонина МАРКОВА (г. Тюмень)................................................................302
Владимир ГУДКОВ (г. Тула).........................................................................305
Валентина ВОЛЧКОВА (г. Серпухов Московской области).....................306
Ольга АНДРЕЕВА (г. Тула)...........................................................................312
ПЕСНИ
Людмила ПЕНЬКОВА (г. Тула)....................................................................319
Ирина ШУЛУПОВА (г. Тула) ......................................................................319
УЧРЕДИТЕЛЬ
АЛЬМАНАХА «КОВЧЕГ»:
ОРДЕНА Г. Р. ДЕРЖАВИНА
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ПРИОКСКИЕ ЗОРИ»
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
АЛЬМАНАХА «КОВЧЕГ»:
ЯКОВ ШАФРАН — главный редактор и составитель
ЛЮДМИЛА АЛТУНИНА — зав. отделом
публицистики и литературоведения
ВЛАДИМИР РЕЗЦОВ — зав. отделом поэзии
СЕРГЕЙ КРЕСТЬЯНКИН — зав. отделом прозы
АЛЕКСЕЙ ЯШИН (от «Приокских зорь»)
ВАЛЕРИЙ ХОДУЛИН
ГЕННАДИЙ МАРКИН
ВАЛЕРИЙ ДЕМИДОВ
12 +
В соответствии со ст. 27 Закона РФ «О средствах
массовой информации» и Федеральным законом
от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», альманах предназначен
для людей старше
12 лет.
В МАКЕТЕ ОБЛОЖКИ ОБРАЗЦОМ ЯВИЛОСЬ
ФОТО АВТОРА ИРСЕН:
http://fotki.yandex.ru/users/tvoi-druzia/view/405071/?page=1
В иллюстрациях использованы картины:
стр.3 — А.К. Саврасов «Грачи прилетели», 1871 г. (Гос. Третьяковская галлерея)
стр. 10 — Ю.Ю. Клевер «Зимний закат в еловом лесу», 1889 г. (Иркутский обл. худ. муз.)
стр. 154 — Р.А. Берггольц «Осень», XIXв.
стр. 290 — К.Е. Маковский «Семейный портрет», 1882 г. (Государственный Русский муз.)
стр. 316 — К.Е. Маковский «Портрет детей художника», 1882 г. (Тверская обл. карт. гал.)
стр. 317 — И.И. Левитан «Октябрь (Осень)», 1891 г. (Самарский худ. муз.)
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ»
КОВЧЕГ
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
ОРДЕНА Г.Р. ДЕРЖАВИНА ЖУРНАЛА «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ»
ВЫПУСК 7
Произведения, опубликованные в альманахе,
даны в авторской редакции
Редакторы: Л.Д. Алтунина, В.В. Резцов,
С.О. Крестьянкин, Я.Н. Шафран
Корректоры: Л.Д. Алтунина, В.В. Резцов,
С.О. Крестьянкин, Я.Н. Шафран
Компьютерный набор: авторы
Компьютерная верстка, изготовление
оригинал-макета и оформление: Я.Н. Шафран
Составление: Я.Н. Шафран
Издатель — ордена Г.Р. Державина
литературно-художественный и публицистический журнал
«Приокские зори»
300040, Тула, ул. Калинина, д. 26, кор. 2, оф. 210
e-mail: bonyans@yandex.ru тел. 8- 953-443-14-69
Подписано в печать 26.06.2017 г.
Формат 60х84/16. Усл.-печ. л. 18.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 250 экз. Заказ № 129.
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии издательства «Полиграфинвест»
300028, Тульская область, Тула, Сурикова 20
Тел.: (4872) 79-29-62
* Официальный сайт Русской Православной Церкви. Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси http://www.patriarchia.ru/db/print/4470162.html (дано в небольшом сокращении).
* Отрывок из романа «Девять жизней».— М.: Издательство «Авторская книга», 2012.
* Одна из глав из повести «Коллекционер Будущего» «Чиппи-чиппи, Чип-чип» была напечатана в литературно-музыкальном альманахе «КОВЧЕГ» № 6 за 2016 год.
* Джюра Якшич (1832—1878); строки из стихотворения «Европе»; пер. с сербск.
* Рассказы из подготовленной к печати авторской трилогии повестей, рассказов, эссе, очерков и стихов, объединённых серией «Моя малая родина — Горный Алтай».
** Мария Ивановна Шумская была у нас учительницей немецкого языка в Майминской общеобразовательной средней школе № 1, именуемой «Белой школой», поскольку выкрашена она в белый цвет. Учила нас, а в пятом классе Мария Ивановна была нашим классным руководителем. В доме Марии Ивановны я любила бывать с детства и до сих пор поддерживаю с нею отношения. Она по-прежнему живёт в огромном райцентре Майма (Республика Алтай), где выросла, окончила школу и я, и где бываю ежегодно вот уже на протяжении сорока лет.
* «Белки» — диалектное название вершин гор, покрытых снегом.
* Вороток — ручной инструмент для зажима и вращения некоторых видов режущего слесарного инструмента: метчиков, плашек, разверток, зенкеров и т.п. Виды воротков: для зажима инструмента с квадратным хвостовиком, для резьбонарезных плашек, гаечный ключ в виде воротка... http://ru.wikipedia.org/wiki/Вороток
* Место: 3-я гвардейская парашютно-десантная рота 1-го гвардейского парашютно-десантного батальона 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии, Тула.
Время: 1974—1981 годы.
Командир 1-го гв. пдб — гвардии подполковник БУЙ Анатолий Филиппович.
Командир 3-й гв. пдр — гвардии капитан ТЕРНОВСКИЙ Александр Юрьевич.
Врач 1-го пдб — гвардии капитан медицинской службы МАКАРОВ Николай Алексеевич.
* Кеннет Уэйн (Кен) Драйден (англ. Kenneth Wayne "Ken" Dryden; 8 августа 1947, Гамильтон, Онтарио) —– канадский хоккеист (вратарь). Участник суперсерии СССР —– НХЛ. Во время написания сонета участие в составе советских клубных команд иностранных легионеров было делом немыслимым.
* Поэма (в сокращении) — из сборника «Святая Русь» (Москва, 2016). В него вошли три произведения: «Святая Русь», «Ска-
зание о Петре и Февронии» и «Тристан и Изольда» — поэмы в стихах, объединенные темой высокой любви: к своему Отечеству, между супругами, в семье,— основе государственности; между влюбленными у разных народов.
* Материал впервые опубликован в журнале «Филологические науки. Вопросы теории и практики». Тамбов: Грамота, 2016. № 5. Ч. 2. С. 123—125. ISSN 1997—2911. (Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2016/5-2/36.html)
* Очерк из подготовленной к печати авторской трилогии повестей, рассказов, эссе, очерков и стихов, объединенных серией «Моя малая родина — Горный Алтай».

















